Через тернии к звездам: долгая дорога Талгата Мусабаева в космос

В августе нас покинул Талгат Мусабаев, первый космонавт-исследователь из Казахстана. Его путь – сначала в авиацию, а потом космос – был долгим, кривым и тернистым. С его слов, ни у кого больше ни до, ни после него такой тяжелой дороги не было.
В отряд космонавтов Талгат Мусабаев пришел, имея за плечами не летное училище (его он закончит только в 42 года), а школу ДОСААФ и диплом авиационного инженера.
Родился он недалеко от Алматы – в поселке Фабричный (сейчас Каргалы). Мать работала главврачом поселковой больницы, отец – начальником отдела кадров расположенного там суконного комбината, до этого долгие годы работал в журналистике.
– Родился я на самом деле 7 декабря 1950 года, а не месяцем позже, но узнал об этом только в 50 лет. Мама сказала, что с отцом думали на десятилетия вперед, чтобы не попал в армию на осенний призыв. Разве они могли предвидеть, что их сын дослужится до генерал-майора российской и генерал-лейтенанта казахстанской армий? Космонавтом, конечно, я хотел стать не сразу, тогда такого еще понятия не было. Когда мне было три года, я увидел самолет, пролетевший над нашим поселком и с этого момента мечтал стать летчиком.

Семья Мусабаевых переехала в Алма-Ату, когда Талгату было 7 лет. О первом полете человека в космос он услышал на торжественной линейке в столичной школе №58.
– Когда объявили об этом, линейка мигом развалилась, мальчишки начали бегать по двору и кричать: «Я самолет!», «Я летчик!», – вспоминал космонавт в подробном многочасовом интервью на YouTube-канале Арманжана Байтасова, которое состоялось в январе 2024 года. – А я стоял-стоял и выдал: «В космосе Талгат Мусабаев!» Вот с этого момента – с 12 апреля 1961 года – я захотел стать космонавтом.
Но для этого надо было настроиться на упорный труд, не отклоняясь на второстепенное. Без здоровья не примут даже в летчики, не говоря о космонавтике, поэтому до 23 лет ни разу не курил и не выпивал. Я и в спортивную гимнастику пошел ради этого. До этого занимался плаванием, во втором классе получил второй взрослый разряд, но это скучный вид спорта, хотя и полезный. Гимнастика в этом плане на три порядка выше. Тройные сальто, пируэты, перекладина, брусья, кольца… Из-за того, что спорту уделял очень много внимания, школу я закончил хотя и хорошо, но без медали. В Рижском авиационном институте, куда поступил после школы, тоже занимался гимнастикой. Когда попал в сборную Латвии, меня в шутку называли единственным «латышом».
В этом престижном вузе учиться было нелегко. Я попал в группу медалистов, но из 31 поступивших закончили его только 13, остальных отсеяли по неуспеваемости.
А дальше было еще сложнее. В отряд космонавтов я пытался пройти много лет, но всегда был отлуп. Пишешь – и никаких ни ответов, не приветов. В советское время декларировались всеобщее равенство, братство и так далее. Мы росли, веря в это, но потом оказалось, что это не совсем так. Я ненавижу национализм в любой форме, в каждой нации есть и гении, и средние люди, и идиоты, но в первый отряд космонавтов, как я узнал позже, попадали по негласному, нигде за зафиксированному (вот в чем еще коварство) указанию – набирать лиц только славянской национальности. Не русской, а именно славянской – русских, украинцев, белорусов. Другим дорога под разными предлогами была закрыта. И все же мы переломили эту ситуацию.
С чего все начиналось? Во-первых, я не очень хотел поступать в Рижский авиационный институт. Он, конечно, выпускал солидных наземных инженеров. Хорошо зная авиационную технику, они руководили процессом подготовки самолетов к полёту. Но я пошел туда только потому, что мой дядя, который прошел войну авиационным техником, возглавлял в Карагандинском мединституте кафедру физики. Он сказал, что летчик – это шофер, только в небе, а я с моими знаниями могу рассчитывать на нечто большее, чем летные училища. Родители вообще не хотели, чтобы я пошел в авиацию. Мама, как военврач, прошла войну от Сталинграда до Берлина и закончила ее капитаном медицинской службы. Она хотела, чтобы и я тоже стал врачом, а отец – журналистом. На худой конец, они хотели видеть меня в политехническом институте.
Но я выбрал Рижский авиационный. И не жалею. Этот великолепный вуз дал мне фундаментальные знания, которые помогли мне потом освоить новую космическую технику.
Это не похвальба, но все научные и технические программы, которые в отряде космонавтов изучают годами, давались мне намного быстрее, чем «чистым» пилотам с летными училищами за плечами. Сейчас не знаю, но в мое время стандартный путь в космос был такой – все однозначно заканчивали летные училища, а дальше летали как испытатели или военные летчики. Потом приезжала мандатная медкомиссия из Звездного городка – Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, и отбирала тех, кто мог стать кандидатами в отряд космонавтов. Это очень серьезный отбор, требования там высочайшие. У меня все было по-другому – после института работал инженером в Бурундайском объединённом авиационном отряде в Алма-Ате, потом меня продвинули на комсомольскую работу, дальше назначили замполитом части, но мне хотелось летать…
Но в советское время было дурацкое положение – тех, кто закончил авиационный вуз, в летчики не брали. Объясняли это тем, что нужно сохранить наземные технические кадры, а чтобы летать, нужно было найти какой-то обходной путь. В аэроклуб меня не брали по возрасту. Туда приходили пацаны после 10 класса, а я переросток – мне уже 26 лет. Пошел в центральный комитет ДОСААФ, который возглавлял генерал-майор Байтасов. Он фактически дал мне дорогу в небо, заявив: «Если хочет, то пусть летает».
И я опять пошел учиться, причем – вечерами, после работы в аэропорту. Все думали, что не вытяну и брошу. Приходил домой – и падал, а утром опять на работу. Летать я сразу начал, это качество есть не у каждого. Бывает, что человек умнейший, но ему не дано летать. Здесь главное даже не профессорские знания, а вестибюлярный аппарат и предрасположенность к так называемой операторской деятельности. У меня все это имелось. Освоил один тип самолета, второй… Попал в сборную республики по высшему пилотажу и в 1980 году стал первым казахом – мастером спорта СССР.
Казахстан на чемпионатах Союза никогда выше 6-го места не поднимался, но в 1983-84 годах мы стали чемпионами Советского Союза по высшему пилотажу, выиграли кубок спартакиады народов СССР.
Я летал на цельнометаллическом одномоторном пилотажном самолете ЯК-52. Мощный двигатель, скорость, маневренность, хорошая управляемость, а мне что вверх ногами летать на нем, что прямо – чувствовал себя одинаково хорошо. Вот где гимнастика помогла!
Желтоксан
С 1984 года Мусабаев стал пробиваться в профессиональные пилоты, но тут подошел декабрь 1986-го.
– Нашего аксакала Динмухамеда Ахмедовича Кунаева снимают и ставят засланного из Ульяновска Геннадия Колбина, – рассказывал будущий космонавт. – А мне, чтобы стать профессиональным летчиком, нужно было пройти обучение в Ульяновском центре подготовки летного, диспетчерского и инженерно-технического состава стран-членов СЭВ – Совета экономической взаимопомощи. И вот, получается, мы с ним фактически одновременно полетели. Я – из Алматы в Ульяновск, а Колбин – из Ульяновска в Алматы. И вот события в Алма-Ате. Сотовых телефонов тогда не было, межгород только по телефону-автомату по 15 копеек минута. До этого мы звонили домой каждый день, а тут набираем – и нет связи. Через два-три дня объявили про «казахский национализм», вышедших на площадь «хулиганов, мародеров» и т.д. Все ошалели и смотрят на меня, единственного в группе казаха. Помню, у нас был преподаватель по фамилии Стешко. Бывший летчик, мудрый человек, он бросил запомнившуюся мне фразу: «А ведь они выступают за свои права». Это был такой диссонанс! Тогда ведь Москва в лице ЦК партии не может ошибаться!
В это время я закончил с отличием учебу в Ульяновске и стал таким образом пилотом, готовым летать на самолете Ту-134. И вдруг меня вызывают из Ульяновска в Москву, в министерство гражданской авиации. Захожу ни живой, ни мертвый в кабинет, где сидели, замминистра по летной подготовке и начальник лётно-штурманской службы СССР. Они заявили, что Казахстане случились националистические выступления, а вы, мол, казах, на вас поступила жалоба, и … посоветовали вновь вернуться замполитом в летный отряд Алматинского аэропорта. Я в это время уже писал заявления о приеме в отряд космонавтов, а мне не дают даже стать пилотом.
Приезжаю в Алма-Ату. Начальником Казахского управления гражданской авиации был в те годы дважды Герой Социалистического Труда Николай Алексеевич Кузнецов. Он вызывает меня и еще какого-то второго пилота. Спрашиваю его, что мне делать дальше. Он сказал, что из Москвы пришло указания – не пускать меня на ТУ-134, но в ЦК Компартии Казахстана согласован вопрос о моем назначении замначальника политотдела гражданской авиации всего Казахстана. Это, по сути, генеральская должность, но я хотел летать. Кузнецов сказал, что могу делать это только на АН-2. И я согласился. Он, услышав это, бросил реплику: «Ты что, дурак?».
В начале 1987 года я приступил к полетам на АН-2 в Бурундайском авиаотряде. Был самым старым вторым пилотом, пацаны на 10-12 лет моложе меня летали командирами экипажа. Но летал великолепно, имел высшее авиационное образование, поэтому скоро перевели в командиры. А потом, чтобы летать на ТУ-134, я снова вернулся в Ульяновск, в тот самый центр, чтобы пройти по новой многомесячное обучение. Такой тогда был порядок. Закончил, вернулся в родной Алматинский аэропорт, отлетал совсем немного на ТУ-134 и тут наконец пришел вызов из отряда космонавтов. Попала эта секретная бумага в Казахское управление гражданской авиации, но Кузнецова там уже не было. На его месте сидел некто Ершов по кличке «Ни рыба, ни мясо». Но не он, а кадровый отдел засунул телеграмму из Москвы под сукно. Я об этом нигде не рассказывал, но до этого четыре года подряд, в нерабочее время проходил медкомиссию. Вердикт всегда был один и тот же – полеты без ограничений, а я все летаю на АН-2.
Москва, не дождавшись ответа на свою телеграмму, связалась со мной по моему домашнему телефон (я не знаю, откуда они его взяли). Беру трубку и слышу: «Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александров». Оказывается, я давно должен быть в Москве.
Пошел в отдел кадров управления гражданской авиации, чтобы узнать, в чем дело, а мне там говорят, что они решили, что мне это не нужно. Я так разозлился, что разом осмелел и от безвыходности пошел на прием к председателю Совета министров Казахской ССР Нурсултану Назарбаеву. В очереди к нему были одни министры, думал, что буду сидеть целый день и вдруг вызывают: «Мусабаев».
Когда я рассказал председателю Совмина свою ситуацию, то даже испугался его реакции. Назарбаев схватил трубку на одном из десятков стоящих на его столе телефонов: «Ершов, ты работать дальше хочешь?» Я вжался в стул! Думаю, ну все, конец моей летной биографии. А Назарбаев без перехода: «Чтобы завтра Мусабаев был в Москве».
Потом он повернулся ко мне: «Понял? Иди». Вот так вот из своей Орбиты на 32 автобусе я, второй пилот ТУ-134, доехал до Дома правительства на Старой площади, откуда и началась моя космическая биография: тем же вечером я вылетел в Москву.
Из лейтенантов в подполковники
В 1991 году Талгата Мусабаева призвали в действующую армию, ему было досрочно присвоено звание майора военно-воздушных сил СССР и его зачислили кандидатом в 4-ю группу отряда космонавтов им. Юрия Гагарина.
– Причем зачислен был в категорию под названием «космонавт-исследователь», а есть еще высшая группа – космонавт-испытатель, – рассказывал он. – Мне сшили классный мундир. Фигура тогда еще была спортивная и он сел, как влитой. Прихожу в отряд, меня поздравляют, а потом состоялся ритуал – каждое воинское звание, не секрет, обмывается. Я достал зубами из граненого стакана «звезду» и представился по случаю присвоения мне внеочередного воинского звания майора. Его я получил после того, как 13 лет пробыл в запасе старшим лейтенантом. В советское время «запасникам» звания не присваивали. Старший лейтенант – и конец.
Все стали расспрашивать, как у меня получилось с внеочередным званием? Я рассказал, что в ГУК (Главное управление космонавтики) мне предлагали подполковника, но я выпросил майора. «Вот ты дурак», – сказали мне. – Теперь встанешь в общий строй и будешь годами идти до этого звания». Но я не мог по-другому. Люди всю жизнь служат и не могут дослужиться до подполковника.
Так я стал полноправным членом гагаринского отряда космонавтов.
Это произошло 6 марта 1991 года. Многие не понимают, что есть огромная разница между летчиком, который летает на самолетах любой авиации – военной или гражданской, и космонавтом. Пилотирование космического корабля в корне отличается от пилотирования самолетов. Лётчику даже труднее его осваивать, чем человеку с инженерным образованием, Там сплошная математика, в голове нужно держать сложнейшие вещи, потому что при полете в безвоздушном пространстве навигация и ориентации всех циклограмм полета совершенно другие.
Те, кто слетал в космос, подозревают, нет, даже практически уверены, что космические корабли проектировали очень хорошие, но никогда не летавшие инженеры. Они не понимают работы пилота, поэтому все сделано как бы наоборот. Летчикам тяжело переучиваться, особенно, когда речь идет о ручном пилотировании. А уж когда идет дискретное, чисто цифровое контруправление, там вообще одна математика. Сейчас немножко облегчили этот процесс, а в наше время нужно было уметь переводить в уме с одной системы исчисления в другую – с двоичной в восьмеричную и десятичную, одних только систем координат используется 15.
Трижды слетав в космос — в 1994, 1998 и 2001 годах, всего Талгат Мусабаев провел в открытом космосе 43 часа и 46 минут.
– Я мог три раза не вернуться на землю, – говорил он. – Не верьте тем, кто говорит, что не боится летать в космос. Так могут утверждать только сумасшедшие. Мне вообще «повезло», потому что я попал в отряд космонавтов в самое тяжелое время – под самый конец СССР, когда рвались все экономические и другие связи. А космос – это тысячи предприятий, расположенных не только России, но и во всех союзных республиках. Не стало хватать запчастей для создания нормального корабля, появились риски, угрожающие полету и безопасности экипажа. Я уж не говорю про наше обеспечение – того нет, этого не хватает, зарплаты у космонавтов смешные, инфляция сумасшедшая… Если раньше на замену всегда было два-три ракетоносителя и в ряд стояли 2-3 корабля, чтобы в случае чего лететь запасному резервному экипажу, то теперь этого уже не было. То есть нужно было работать на 100% только на одной ракете и одном корабле, которые еле-еле собрали. Но при этом экипаж был подготовлен качественно, особенно в первом полете в 1994 году, когда команда состояла их двух до этого не летавших космонавтов – меня и Юрия Маленченко. Оба мы были с высшими летными и инженерно– авиационными подготовками. А я еще был первым в мире человеком, кто взял с собой на орбиту Коран и флаг Казахстана, и первым казахом, официально летевшим как профессиональный космонавт-исследователь.
Кстати, о Коране и вере. По словам космонавта, к Богу его привел космос.
«В космосе были случаи, когда я мог погибнуть. Расскажу лишь один из эпизодов (https://islam.ru/content/obshestvo/41403). Во время выхода в открытый космос случилось так, что оторвалась конструкция, к которой был прикреплен мой страховочный карабин. Я начал медленно погружаться в бездну. Это было нечто ужасное. В одно мгновение перед глазами пронеслась вся моя жизнь.
Ситуация совершенно безнадежная. На корабле даже не существует инструкций по спасению космонавта, попавшего в такое положение. Запаса воздуха хватило бы на 8 часов, а после – неизбежная смерть.
И вдруг произошло нечто необъяснимое: странное перемещение, в результате которого я вновь оказался у поручней корабля. Никаких толчков, прикосновений. Это трудно передать словами. Все произошло вопреки логике, обстоятельствам. Причем это был не единственный случай. Так, постепенно стала приходить уверенность, что нечто свыше оберегает нас. Это присутствие я чувствовал все время»….
Колыбель человечества
Человек, по словам Талгата Мусабаева, как мыслящий homo sapiens, всегда смотрел на звезды.
– Ему хотелось узнать, что же там, на небе, происходит, – говорил космонавт в интервью Арманжану Байтасову. – Константин Циолковский, основоположник теоретической космонавтики, сказал знаменитую фразу – «Земля – это колыбель человечества». Но как вырастает и выходит из своей колыбели отдельный человек – осторожно делает первый шаг, а затем осваивает все новые и новые пространства, так и человечество когда-то обязательно выйдет за пределы земного тяготения и осторожно освоит сначала солнечную систему, а затем выйдет за ее пределы. Эту свою мечту, которая идет издревле, человек воплощает в жизнь, как бы тяжело это ни было. Иначе мы остановимся на одном уровне развития.
Еще совсем недавно люди и на самолетах-то не могли летать, это случилось всего лишь каких-то 120 лет назад. Первых летчиков люди считали героями всей Земли, а теперь их сотни тысяч. Все то же самое происходит и с космосом. Это стихия, которая опасна для жизни и здоровья человека, но он хочет узнать мироустройство. Поэтому, когда Гагарин первый полетел в космос, это был самый главный шаг человечества в ХХ веке. Никто не знал, вернется ли он оттуда живым. И было это всего лишь 60 лет назад, что меньше даже одной человеческой жизни.
А теперь мы находимся в космосе по много месяцев и, слава Аллаху, возвращаемся на Землю. Тем, кто хоть чуть-чуть интересуется космосом, хочу сказать, что туда летают не для того, чтобы показать чье-то лицо: полетел русский Гагарин, американец Джонс или казах Мусабаев. Как минимум 30 лет человек отправляется туда для того, чтобы ставить научные эксперименты. Все наработанные в космосе новые технологии примерно лет через 20 возвращаются на Землю. Сегодня никто из мамаш, наверное, и не подозревает, что памперсы для их детей испытаны вначале в космосе: космонавты работают в скафандрах за бортом корабля по 9-10 часов ежедневно.
Трубы со специальным покрытием, по которым качают нефть и нефтепродукты, в высокотехнологичных нефтяных компаниях не засоряемые. Но их сначала испытывали в космосе – чтобы топливо не засоряло системы космического корабля.
Я провел в космосе сотни экспериментов, но для этого надо было очень долго готовиться. Меня спросят – почему испытания идут именно в космосе, а не на земле? Потому что там нет гравитации – главного врага для создания чистых материалов. На земле невозможно сделать, к примеру, чистую и ровную кристаллическую решетку – кристаллы здесь сплющиваются. После того, как я стал делать в космосе металлические сплавы, меня стали называть главным сталеваром планеты. Ученым очень важно знать, как происходит там горение. Плавка делалась в условиях вакуума. Если при наполнении им серьезнейших технологических установок произошла бы ошибка, то мы, космонавты, погибли бы, потому что они соединены с атмосферой станции и была опасность разгерметизации корабля. Поэтому для того, чтобы производить эти эксперименты, надо очень много знать и уметь разговаривать с учеными, под руководством которым мы работаем, – медиками, биологами, геологами – на одном с ними языке.


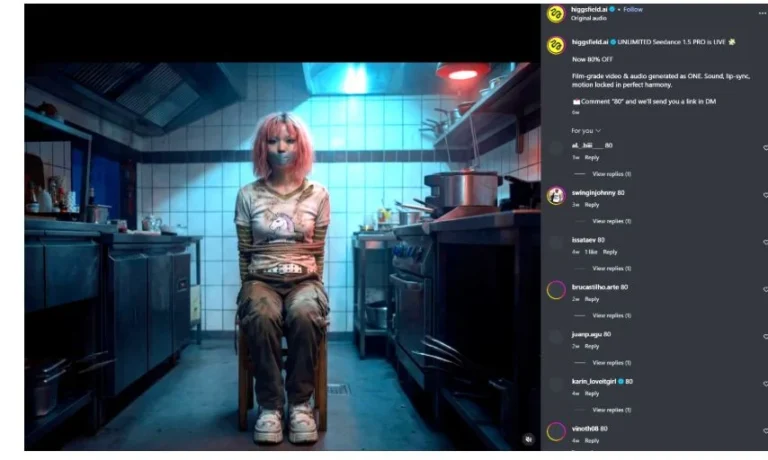


Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.