Что позволит Центральной Азии вернуться на подиум истории?

Итоги экспертного опроса Astana Open Dialogue «Перспективы и барьеры интеграции в Центральной Азии» говорят о том, что большинство (48%) из них экспертов настроены оптимистично. Межгосударственные отношения 56% экспертов считают «относительно стабильными, но с элементами конкуренции». При этом 2% указали, что они подвержены частым колебаниям, и ещё 2% охарактеризовали их как «хрупкие, зависящие от внешнего влияния».
Среди исторически нерешённых проблем, препятствующих сближению стран Центральной Азии, лидируют неурегулированные вопросы по воде и энергетике (52%), внешнее влияние – 40%, конкуренция логистических маршрутов – 30%.
Наиболее реалистичными направлениями экономической интеграции в ближайшие 5-10 лет эксперты считают объединение транспортных коридоров (52%) и энергетическую кооперацию (48%). Также значительную поддержку получили идеи агропромышленного партнёрства (32%)и торговой либерализации, включая создание зон свободной торговли (20%). Менее популярными оказались финансовая интеграция через расчётные системы (14%) и совместные инвестиционные фонды (12%). Частично также назывались образование (22%) и технологии (18%). Слабо представлена металлургия (2%), что может говорить о её ограниченной региональной кооперационной ёмкости.
Оценки текущего уровня инфраструктурной совместимости между странами региона демонстрируют осторожную позицию. Лишь 8% считают совместимость высокой. Большинство (40%) определили её как умеренную, ещё 10% – как разрозненную и конкурентную, а 2% считают её низкой. Эти оценки указывают на необходимость координированных инфраструктурных инвестиций.

Институции, политика и внешние факторы
Роль внешних игроков в процессах интеграции воспринимается неоднозначно. Лишь 43,5% респондентов считают, что внешние площадки в основном способствуют региональной стабильности и связности. При этом 23,5% полагают, что они отвлекают ресурсы и искажают приоритеты, ещё 23% указывают на сдерживающий эффект, особенно со стороны ЕАЭС и ОДКБ. 10% экспертов выразили мнение о нейтральности или непоследовательности этого влияния.
На вопрос о том, какие международные блоки конкурируют с идеей самостоятельной интеграции региона, половина респондентов (50%) указали на Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В числе других структур, сдерживающих развитие автономной региональной повестки, также часто упоминались ОДКБ (30%), Турецкий мир (18%), а также ШОС, СНГ, китайская инициатива «Один пояс и один путь» и даже ЕС. Это говорит о том, что с точки зрения значительной части экспертного сообщества Казахстан уже встроен в достаточно плотную сеть внешнеполитических обязательств, и они, по мнению респондентов, зачастую перетягивают на себя политическое и институциональное внимание, необходимое для запуска самостоятельной интеграционной архитектуры внутри ЦА.
Россия и Китай упоминаются чаще других как конкурирующие за влияние державы, чьё стратегическое соперничество ослабляет региональную координацию.
Восприятие специальных внешнеполитических форматов, таких как саммиты ЕС+ЦА, США+ЦА и аналогичные площадки, в целом носит положительный характер. 73,3% респондентов оценили их влияние как «скорее позитивное», 23,3% как «нейтральное» и лишь 3,3% как «скорее негативное». Это подтверждает, что институционализированные, предсказуемые форматы взаимодействия с внешними игроками воспринимаются как ресурс, особенно если они направлены на содействие диалогу, инфраструктурным проектам и инвестициям, а не на стратегическое доминирование. Тем не менее наличие конкуренции и дублирующих стратегий остаётся фактором, ограничивающим становление полноценной субъектности региона.
На вопрос о том, какие форматы могли бы усилить региональную субъектность Центральной Азии на международной арене, эксперты высказались достаточно определённо. Наиболее поддерживаемым оказался Совет глав государств Центральной Азии – его назвали 63,3% участников. Почти такую же поддержку получил Экономический блок по образцу ASEAN (60%). Более половины респондентов 53,3% поддерживают идею создания Постоянного координационного секретариата, что указывает на потребность в устойчивом административном ресурсе, обеспечивающем преемственность и согласование позиций. Кроме того, 36,7% высказались за введение региональных спецпредставителей, а 20% – за дипломатическую платформу на уровне МИД. Таким образом, респонденты считают необходимым укреплять институциональные основы и репрезентативность региона на международных площадках с упором на региональное взаимодействие.
86,7% респондентов считают, что Казахстан может играть роль ведущего модератора, если будет обеспечена политическая воля и доверие со стороны партнёров. Остальные 13,3% указали, что страна может выступать в такой роли частично – преимущественно в сфере экономики и логистики, где есть институциональный и инфраструктурный задел. Однако дальнейшая реализация такой роли, как подчёркивают эксперты, зависит от доверия, инклюзивности и отказа от доминирования в регионе.
Социокультурная и гуманитарная база
Экспертное мнение демонстрирует чёткое понимание важности гуманитарного измерения в процессе региональной интеграции. Почти каждый респондент считает, что совместные образовательные программы и обмены являются наиболее эффективным инструментом сближения. Тем самым отмечается высокая степень доверия к образовательной дипломатии как механизму формирования общих ценностей и горизонтальных связей между молодыми поколениями. На втором месте по частоте упоминаний (66,7%) – признание дипломов и квалификаций, что подтверждает необходимость снижения административных барьеров и признания мобильности специалистов внутри региона. Половина респондентов выделяет роль общего информационного поля. В меньшей степени, но всё ещё значимо, упоминаются единый культурный календарь и фестивали, а также программы по молодёжному лидерству.
Оценки культурной совместимости стран региона варьируются, но общий настрой скорее позитивный. 40% респондентов считают её очень высокой, ещё 46,7% называют её средней с элементами культурного дрейфа, то есть признают наличие расхождений, но не считают их фатальными. Только 13,3% считают, что совместимость снижается из-за политических и языковых разрывов.
По вопросу о возможности формирования единой региональной идентичности, т. н. центральноазиатского сообщества, мнения разделились, но преобладают реалистично-оптимистичные оценки. 40% экспертов полагают, что консолидация вполне достижима при активной гуманитарной политике, и столько же респондентов оценивают её как возможную в долгосрочной перспективе. Лишь 20% считают, что национальные различия преобладают, делая идею общего самосознания маловероятной.
Результаты опроса показывают, что эксперты склонны рассматривать ближайшее будущее Центральной Азии через призму прагматизма и региональных интересов, а не идеологических моделей. Наиболее вероятным сценарием респонденты считают интеграцию на базе прагматической экономики. Половина опрошенных экспертов уверены, что в ближайшие десять лет кооперация между странами ЦА будет определяться преимущественно экономическими интересами: транспортом, торговлей, ресурсами, логистикой, и строиться на взаимной выгоде, а не на глубокой политической интеграции.
Второй по популярности вариант – альянсы по интересам без общего института – выбрало 33,3% опрошенных. Такой сценарий предполагает отсутствие общего центра принятия решений или координирующего органа, но допускает временные и гибкие форматы сотрудничества между странами региона в зависимости от их текущих приоритетов и условий.
Сценарий конкуренции и блоковой фрагментации поддержали 10%, а возврат к доминированию внешних игроков – 6,7%. Это показывает, что хотя риск внешней зависимости и геополитической турбулентности и осознаётся, эксперты в целом уверены в том, что регион будет развиваться в направлении большей самостоятельности и внутреннего прагматизма. Респонденты также отмечают, что странам региона важно избежать конкуренции за внешнего инвестора и обратить внимание на валютную политику региона.



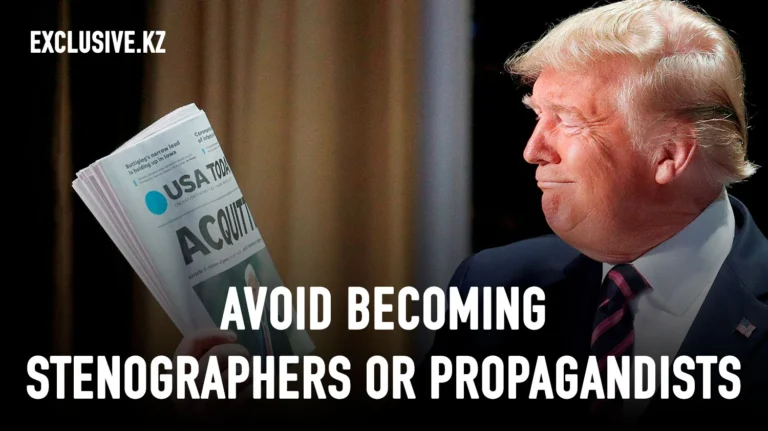

Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.