Путин предложил изменить Конституцию

Вице-премьер-министр РК Роман Скляр в конце прошлой недели озвучил основную версию крушения самолета Фоккер-100, следовавшего ранним утром 27 декабря прошлого года рейсом Алматы-Нур-Султан: противообледенительные мероприятия при подготовке этого рейса к вылету были выполнены слабо (облит был не весь самолет, а только стабилизатор). В таком случае вопрос: а почему?
— Не исключаю, что в нижней части крыла (создает основную несущую силу воздушного судна), действительно, мог присутствовать лед, — сказал на условиях анонимности один из казахстанских пилотов, согласившийся прокомментировать ситуацию. — Когда самолет, приземлившись, двигается по слякоти, то разбрызгиваемая колесами грязь откладывается на закрылке и замерзает. А одна из особенностей Фоккера-100 — низкое крыло. Сверху оно может чистым, а чтобы увидеть, что происходит внизу, нужно наклониться.
В пункте 204 параграфа 5 Правил производства полетов говорится, что «Полет, который планируется выполнить в предполагаемых или фактических условиях обледенения на земле, начинается только в том случае, если самолет прошел проверку на предмет обнаружения обледенения и на нем были проведены работы по устранению (предотвращению) обледенения».
Отсюда следует, что эксплуатант (авиакомпания) обязывает экипаж воздушного судна и наземный персонал, который обслуживает судно в условиях фактического или прогнозируемого обледенения (а это имело место быть: в тот роковой день самолет простоял два дня, следовательно, он, как и любое железо, промерз), осмотреть самолет и при наличии отложения льда убрать его с поверхности. Однако это, видимо, сделано не было. А вот почему – это большой вопрос.

Что такое вообще противообледенительная процедура? Она состоит из двух вещей – D-icing, уборка отложившегося льда, и antiicing — жидкости, предупреждающей образование льда. На видео взлета данного самолета зафиксировано, что он не отходит от земли. Это означает единственное: ему что-то мешало сделать это. А что ему могло мешать, кроме наличия льда, если отказ техники руководство компании отрицает на всех своих пресс-конференциях?
— Это правда, что некоторые авиакомпании экономят на противообледенительной жидкости?
— Вопрос — в десятку! Знакомый пилот, работавший в «Бек-Эйр», рассказывал, что в его практике был случай, когда он по радио вызвал обливочную машину, увидев на крыльях лед перед взлетом. Коллега-инструктор одернул: «Ты что?! Что там у тебя у тебя? Изморозь на крыле? Ерунда!». В общем, ему было сказано, что «не стоит поливать дорогой жидкостью песок». Фоккер-100, мол, прощает отложение льда на нижней кромке крыла. Другими словами — в компании «Бек-Эйр» использование противообледенительных процедур считается едва ли не дурным тоном. Я надеюсь, вы меня поняли.
Вот в «Эйр-Астане» пилотов приучают жестко следовать правилам безопасности полетов. Там имеет место быть так называемая политика «чистого крыла». Оно (крыло) вроде бы и так нормальное, сухое, но если у командира экипажа, которому компания делегирует право принятия решения – обливаться-не обливаться, появляются сомнения из-за наружного воздуха, то они всегда трактуются в пользу обработки крыла. Эта довольно-таки недешевая процедура (я не знаю точно, но, говорят, около 500 евро) спасла много-много жизней, когда в атмосфере присутствовали условия для образования обледенения. Но если же вдруг командир решил не делать этого, а у технического состава имеется другая точка зрения, то пилот обязан профессионально обосновать свое решение. Так, по крайней мере, принято в «Эйр Астане».
Из соображений корпоративной этики я бы не хотел особо вдаваться в комментарий действий экипажа «Бек-Эйр», осуществлявшего рейс Алматы-Нурсултан утром 27 декабря. Мы все знаем, что согласно предварительного расследования, второй пилот попытался прервать взлет, но командир, более опытный пилот с громадным налетом за плечами, принял другое решение. Оно, увы, оказалось ошибочным.
– Чьей вины все-таки больше: эксплутанта в лице руководства авиакомпании «Бек-Эйр», который экономил на всем – на зарплатах, на жидкости и т.д., экипажа или наземной службы?
— Технический персонал, готовя самолет к следующему взлету, меняет масло на двигателе, прогревает самолет, готовит какие-то другие системы. После всех этих процедур выпускающий техник должен обойти воздушное судно, осмотреть все летные поверхности. Вместе с эксплуатантом и командиром воздушного суда он несет равнозначную ответственность за безопасность полета, поэтому их действия должны быть согласованными. Если командир принимает решение по поводу обливаться- не обливаться противообледенительной жидкостью, то он обсуждает это с техником в том числе. В «Эйр-Астане», как я уже сказал, если мнения складываются 50 на 50, то однозначно – обливаются. А в «Бек-Эйр», про словам знакомого пилота, сомнения в расчет не берутся. Здесь жили по принципу: «Изморось на крыле? Да, ладно. Не впервой, полетим и так».
Вот и в этот раз, надеясь на этот авось, техник наверняка не посмотрел под крыло. Его кромка была, видимо, чистой, а стабилизатор чуть покрыт изморозью. Поэтому они только его и решили облить.
Тот пилот из «Бек Эйр» рассказывал, что у него был подобный случай: после осмотра самолета он увидел, что на закрылках, внизу, осталась замерзшая слякоть. По его требованию, лед был убран перед вылетом. Как это техники сделали, — это уже их проблемы. Может, они его просто скололи, а может, вызвали специальную печку, чтобы сбить его теплым воздухом.
Не могу с полной уверенностью утверждать, меня там рядом не было, но мне кажется, что в случившейся трагедии сыграл свою роль и человеческий фактор. Командир, возможно, довольствовался только рапортом техника о готовности воздушного судна к вылету. Техническая служба наверняка просто смела накопившийся за два дня снег и иней метелкой. Если двигатели были исправные, то другой трактовки нет.
— Но ведь рядом был второй пилот.
— В самом деле, если бы все полеты проходили идеально, можно было бы летать одному. Но нас в кабине на то и находится двое, чтобы контролировать друг друга. Авиация, собственно, на этом и зиждиться. В принципе действия второго пилота, согласно официальной версии, были правильные: он попытался прекратить взлет. Плохо то, что не настоял на своем до конца. И коль продолжили экипаж взлет, значит, на тот момент оставаться в кабине было можно. В общем, вина соразмерна на всех. Технический персонал недосмотрел, капитан не проверил, второй пилот не настоял…
— А куда смотрела служба безопасности полетов? Она ведь есть во всех компаниях.
— Это так. Она должна присутствует при отправлении самолета, но эта служба заточена совершенно на другое: чтобы не пронесли на борт оружие, взрывчатые и воспламеняющиеся вещества, а техническое состояние самолета перед вылетом эта служба контролирует только визуально. Есть два колеса, два двигателя, два крыла, — значит, все нормально. А такие глубинные моменты, которые я озвучивал – нагнуться, посмотреть, что там делается под нижней частью крыла, — этого ее сотрудники, конечно, не делают. Они считают, что для проверки технического состояния существует экипаж воздушного судна, инженерный и технический персонал. Главную ответственность при этом несет командир экипажа. Перед выполнением полета он анализирует метеоусловия и осматривает самолет на наличие льда на несущей поверхности крыла. Но во многих частных компаниях присутствует такой фактор как экономия, экономия и еще раз экономия. Ради нее пилотов вынуждают идти на определенные нарушения.
— У «Бек-Эйр» были самые доступные авиабилеты, а что будет теперь?
— За счет дорогих билетов вы платите за свою безопасность. А вы не задумывались, с чего это вдруг у некоторых компании дешевые билеты? Да счет вас же, налогоплательщиков. Компаниям, выполняющим так называемые социальные рейсы, компенсируют расходы из госбюджета. С юридической точки зрения, тут нет никакого подвоха. Это общепринятая практика – оказывать финансовую поддержку авиакомпаниям, которые помогают государству в области авиаперевозок. Плохо то, что люди, которые руководят авиакомпаниями, быстро поняв, что можно неплохо заработать на бюджетных средствах, решили, что для этого можно лишь закупиться кой-какой (подчеркиваю – кой-какой) техникой. Вот они ее закупили и доэкономились. И когда Нурлан Жумасултанов (председатель правления авиакомпании «Бек Эйр») сказал на пресс-конференции, что его компанию «добивают» в Казахстане, и скажите, мол, спасибо, за то, что погибло всего лишь 12 человек, то я это расцениваю как верх цинизма. Ведь этим людям не повезло оказаться в числе выживших только из-за политик компании.
Другое дело, когда бюджетные рейсы открывают авиакомпании, уже завоевавшие свое место на мировом рынке авиауслуг. В Казахстане таковой стал «FlyArystan» – «дочка» «Эйр-Астаны». Я далек от мысли, что командир воздушного судна этой лоукостерной авиакомпании будет стоять перед выбором: обливаться или не обливаться противообледенительной жидкостью перед вылетом. «Дочка» наверняка будет следовать тем правилам, по которым живет ее «мать». А в «Эйр-Астане», повторяю, действует политика «чистого крыла».
— В СМИ прошла информация, что авиаторы Казахстана обратились с петицией к Президенту Казахстана о присвоении погибшему пилоту «Бек Эйр» Марату Муратбаеву звания Халык Кахарманы, как когда-то Дмитрию Родину, спасшему в марте 2016 года 121 жизнь. Как вы могли бы это прокомментировать?
— Я не против, чтобы погибшему командиру дали героя. Я против другого. Почему каждый пилот должен делать сверхдвижения, если техника не работает или работает плохо? Для чего его нужно загонять в такие рамки, чтобы у него не оставалось другого выбора, кроме как лететь, проявляя чудеса героизма? Что мешало компании перенять у национальной авиакомпании «Эйр Астаны» политику «чистого крыла»? Ведь если бы остановили самолет, как требовал того второй пилот, то они бы вообще не выкатились.
Я знаю взлетную полосу Алматинского аэропорта, как свои пять пальцев. Она огромная – 4400 метров! Ее специально делали под ТУ-144, первый советский сверхзвуковой самолет. Действия второго пилота с профессиональной точки зрения были правильными – он поставил двигатель на малый газ и пытался прекратить взлет. Если бы капитан прислушался к нему, то самое большее, что экипажу грозило бы, — объяснительные, выговоры и прочее. Зато пассажиры и командир остались бы живы. Нет, я не против того, чтобы Марату Муратбаеву дали героя, но он, повторяю, сделал фатальную ошибку. Поэтому я хотел бы не как пилот, а просто как человек, который тоже летает в качестве пассажира, сделать обращение ко всем СМИ: не оставляйте это дело – с крушением Фоккера-100. Прецеденты будут еще, если не навести порядок в сфере авиаперевозок.
P.S. Крушение самолета 27 декабря 2019 года – не единственное в Казахстане. 29 января 2013 года под Алматы рухнуло воздушное судно CRJ-200 авиакомпании SCAT, на борту которого находились пять членов экипажа и 16 пассажиров. Командир воздушного судна «Эйрбас-320» Тоты Амирова дала после того чрезвычайного происшествия комментарий, касающийся безопасности полетов. Некоторые его моменты, на наш взгляд, не потерял актуальности и сегодня.
«Трагические случаи, связанные с падением воздушных судов, говорят о том, что в отечественной авиации царит бесконтрольность, — сказала пилот в те дни. — Лично мое мнение (подчеркиваю – лично мое) — причиной аварии с CRJ-200 могло стать обледенение самолета. Воздушное судно может буквально за минуту покрыться льдом. Причины – снег, дождь, туман. В таких случаях оно становится тяжелым, плохо управляемым. В версию — якобы не хватило топлива – я не верю. Да, все авиакомпании (наша не исключение) рекомендуют экипажу экономить его. Но менеджеры могут просить о чем угодно, однако юридическую ответственность за безопасность несут не они, а командир экипажа. Только он может решить, сколько нужно взять топлива, здесь он неподвластен даже президенту авиакомпании. Он на то и командир, чтобы не идти на поводу у руководства».
Иллюстрации на обложке из открытых источников.

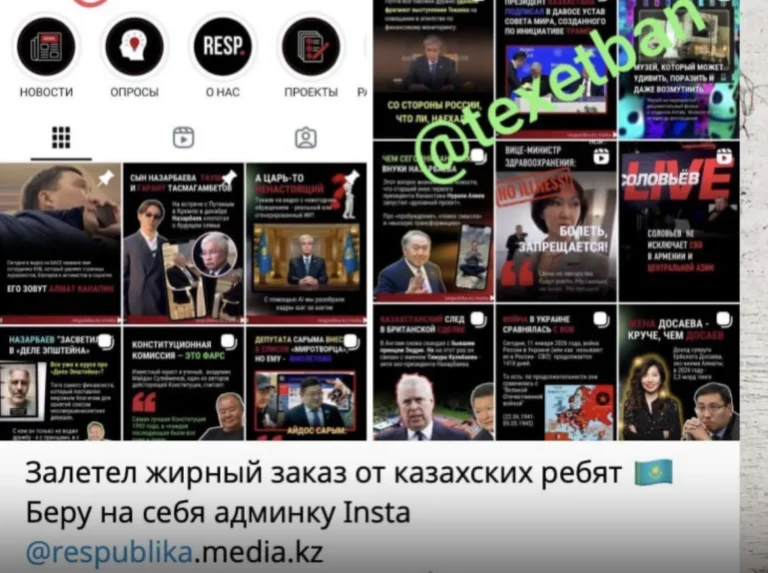



Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.