В Туркменистане остановилось время
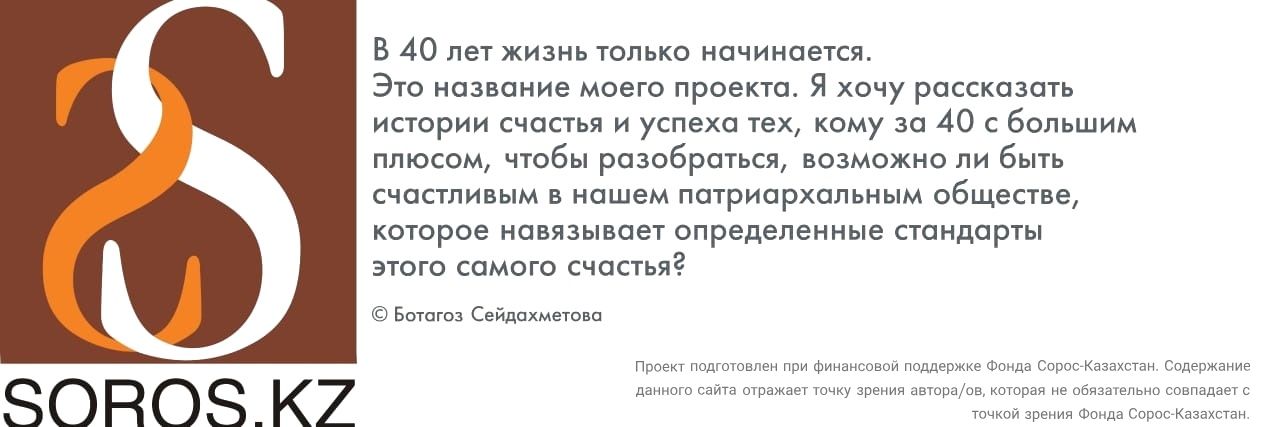

Асхат Ахмедьяров родом из Уральска, как художник сформировался в Шымкенте. На юге сделал свой первый и скандальный перформанс, который взорвал сонное патриархальное общество и разделили его на два лагеря.
Каждая новая эпоха его жизни, по признанию Асхата, сопровождается огнем. Он в буквальном смысле сжигает все мосты за собой – картины, в которых он разочаровался, вещи, которые ему показались уже отжившими свой век.
В Астану он переехал в 2002 году в возрасте 40 лет, и начал новую страницу своей жизни.

Бабушка Умит
Мои первые воспоминания связаны больше с моей бабушкой Умит, чем с родителями.

Она была байбише у моего дедушки Ахмедияра, любила поездки по знакомым и родственникам, разбросанным по разным селам, кыстау и жайляу Акжаикского района. Именно бабушка Умит открывала мне географию, людей, и уклад жизни почти кочевый, и очень натуральный.

В детстве меня впечатлили узоры на бабушкином ковре. Он сохранился, и находится сегодня в доме младшего брата в Уральске. Килем был ручной работы, очень дорогой — как если бы сегодня в вашем доме висела небольшая графика Кандинского или картина казахской живописи 1960-х годов.
Я рассматривал таинственные чередующиеся символы на ковре, отдаленно напоминавшие животных, птиц и растения. Магия этих безмолвных существ и знаков завораживала, питая моё воображение, и кажется с того времени я впервые начал рисовать.
Бабушка любила общаться с птицами. В то время я не осознавал, думал, что это такие ее выдумки. Но со временем понял, что это связано с шаманизмом. Связь казахов с природой, с животными, со средой — это было естественно, это у нас в крови.

Родители: Мария Елегенова и Сайлау Ахмедьяров
Помню, как она стирала на крыльце дома бельё и обращалась к вороне, сидевшей на ТВ-антенне соседнего дома. Бабушка спрашивала у птицы: «Как там мой Сайлау и келин, они здоровы, они устроились?». Я подсчитывал количество ответов «карр» на вопросы, и мне показалось, что их диалог был вполне осмысленным.
Степной этикет
Как-то весной приехали мы с бабушкой в какое-то хозяйство в степи. Весенний воздух с ароматом талого снега, согретый долгожданным солнцем, перемешивался с запахом животных. Я оказался на границе животного и растительного миров, где присутствие человека было незначительным. Блеяние овец было звуковым фоном перекличке пастухов и лаю собак, а трогательные голоса новорожденных ягнят контрастировали с едва слышным голосом умирающего старца. Было видно, что ему трудно дышать, но появлению гостей он был рад, подтверждением было его оживление на имена людей в беседе с моей бабушкой.

Асхат с братом Бауржаном и сестрой Жанар
После рукопожатий, объятий, слюнявых поцелуев меня в щёку (это мне не очень нравилось), взрослые подолгу говорили о вещах, не имеющих прямого отношения к делу. О благополучной погоде, о подвязавшемся к нашей арбе белом щенке, о состоянии скота, и ещё ряд посторонних вопросов, скрытого смысла которых я в то время не понимал.
Спустя десятилетия я осознал, что это был такой степной этикет, это наша культура.
Я понял со временем, что такое наша номадийская культура, и европейская. Это две противоположности. Я обратил внимание на тот момент, когда я начал меняться. У бабушки я воспитывался на казахских традициях, на основе кочевой культуры. Все изменилось, когда мы переехали ближе к городу… До города мы сменили три колхоза, где жили.
Скрипка и навоз
В одном из таких сел, где 90 процентов населения были украинцы и русские, прошло мое школьное детство. Жизнь была суровая – снежная зима, жаркое лето…
Именно в то время, когда я учился в 5 классе, я увидел в музыкальном отделе магазина районного центра скрипку. Инструмент нравился мне не только звучанием, но и изяществом формы. Заявил об этом родителям. Я даже цену узнал. Но, оказалось, что 20 рублей стоил только смычок от скрипки, а скрипка выше 100 рублей. Родители посчитали, что кроме самой скрипки, надо платить за обучение, а в ауле не было музыкальной школы, и это было нереально.
Каждый раз, когда я чистил навоз в коровнике, я смотрел на стену сарая, и представлял, что там висит моя скрипка.
Я продолжал рисовать. И сегодня, спустя много лет, я понимаю, что скрипка была символом, предвещавшим мое будущее, которое будет связано с искусством.

Особых успехов в школе я не достиг, был абсолютным профаном в точных науках. Помню, как сдавал экзамен по химии директору школы. После экзамена он выставил меня перед классом, и сказал: «Ну что, Ахмедьяров, я могу дать тебе совет – бери лопату, и лови у коров помёт на колхозной ферме, это то, на что ты способен».
Это было очень обидно.
Но в тот год из нашего выпуска в институт поступили только 2 человека – это был я и мой одноклассник.
Нарымбетов и Симаков
Я поступил на художественно-графический факультет пединститута в родном городе, а мой одноклассник – в сельскохозяйственный институт в Уральске.
В моем институте у меня были более серьезные задачи, и меня спасало то, что там как-то обращали внимание на предметы искусства – живопись, рисунок, композицию. Но помимо этих предметов, нам давали то, что не имело отношения к искусству — начертательную геометрию, сопромат, технологию материалов, основы машиноведения… Меня это выводило из себя! Так что через полтора года я понял, что ошибся в выборе учебного заведения.

Я бросил институт, и сделал попытку поступить в Алма-Ате. Мама собрала деньги на самолет, и отправила меня в этот мегаполис к каким-то родственникам. В художественное училище был очень высокий конкурс – 2-3 человека на место. Надо было сдавать, помимо других предметов, историю и сочинение. Один из этих экзаменов я и завалил.
Вернулся в Уральск с твердым намерением еще раз попытаться поступить в алма-атинское училище. Но тут сестра одного из моих сокурскников, узнав о моем стремлении обязательно поступить в художественное училище, предложила познакомить меня с известным художником Молдогулом Нарымбетовым. Написала ему письмо с просьбой помочь ее «младшему брату». С этим письмом я отправился в Чимкент, где началось время знакомств со многими художниками.
Молдогул Нарымбетов сказал, что готов делиться со мной всеми знаниями, но «есть учитель круче меня». Он говорил о Виталии Симакове.

С первой попытки я не смог поступить, поэтому устроился в Чимкенте на работу. Надо было прописаться, а для этого – иметь работу. Так что устроился художником-оформителем, делал вручную все то, что сегодня набирают на компьютере и печатают на принтере. Обеспечил себе прописку в общежитии, жил недалеко от дома, где жили Нарымбетов и Симаков.
Весь год я совмещал работу с творчеством – делал наброски, композиции, писал этюды. Через год поступил в училище, причем, очень успешно — меня сразу взяли на второй курс!
Я попал в среду очень одаренных студентов, с которыми мы сняли домик с садом, огородом, баней. Это была творческая мастерская, или наша, как сегодня говорят, арт-резиденция, где прошло все время моего обучения.
Художники
У Симакова был небольшой круг любимчиков среди студентов, преданных искусству. Таких преданных людей я раньше не видел. В Уральске точно не встречал таких! Они подкупали искренностью творческого выражения, которое не зависит от академизма, от официальной программы в училище. Это был магический мир в картинах. Казалось, что плоскость холста играет условную роль, создавалось ощущение, что ты проваливаешься в четвёртое измерение картины.
Характер у этих людей был не сахар, тяжелый, с ними было сложно общаться.

1986 год
До поступления я часто проходил мимо училища, и видел студентов. Среди них были яркие типажи, непохожие на обычных людей. Это были будущие гримёры, модельеры, светотехники, художники-оформители и живописцы. Многие одевались ярко и не стандартно. Они носили огромные, сшитые вручную сумки для холстов и бумаг, шляпы, свободные балахоны вместо рубашек. Все эти удивляло и притягивало. Я же был в числе тех, кто был осторожен в выборе одежды. Одевался по общепринятой моде.
Чимкент – город со стержнем
Чимкент – это круглый год деятельности, там не надо было мерзнуть.
Я долго не мог привыкнуть к климату, два года носил там шубу, по привычке. На третий год отказался от нее, в Чимкенте можно ходить в ветровке зимой.
Когда я впервые оказался в этом южном городе, увидел, что на улице продают какие-то незнакомые мне фрукты. Урюк, абрикос, виноград… Все это великолепие было по доступной цене, так что я накупил всех этих фруктов и сразу стал объедаться ими. Потом у меня были проблемы с животом… Немало проблем доставляло общение на родном языке. Мало того, что я им плохо владел, так еще и местный диалект осложнял существование. Теперь, к знакомым мне предметам и их «новым» именам надо было привыкать: аухат, леген, там, саз, картычкы (картошка), плоский (плоскогубцы), шыша (бутылка). И, конечно, прилагательное – шешен (сокращённое: мать твою), без которого не обходилось ни одно мужское предложение.
Сам город и ЮКО сильно отличались от Казахстана.
В то время первым секретарем обкома партии был Асанбай Аскаров. Это был расцвет его деятельности. После Уральска Чимкент казался другой страной. Это был очень зеленый город, с работающими фонтанами, чистый. Он и сегодня такой!

Работа Асхата «Әженің көзі». Куратор: Айгерим Капар
Меня поразило его этническое многообразие, там жили казахи, узбеки, армяне, карачаевцы, турки, татары, русские, немцы, корейцы, поляки. Это был колоритный город, с развитой торговлей и пересечением культур.
В отличие от других городов, для меня Чимкент – это город с лицом, со стержнем. Он был экономически независим. В других городах в моменты каких-то кризисов тут же случался дефицит, а Чимкент был самодостаточным, он не зависел от температурных перепадов в других частях Казахстана и Союза. Там люди работают на земле.
Подпольный кружок
Ближе к концу учебы мой преподаватель Симаков разработал систему обучения, которая называлась «пространственная скульптурная композиция», и открыл подпольный кружок, чтобы давать знания.
Кстати, Симаков был учеником ученика известного русского авангардиста Павла Филонова.
Основной целью его системы было научить видеть пространство и строить грамотно композицию. Этому нигде не учили. У Симакова был целый курс, куда было непросто попасть. Он сам отбирал студентов, в которых верил. Случайные там не задерживалась. Приходили не только студенты, но и преподаватели, и студенты из других вузов. Мне повезло освоить базовые принципы изобразительной грамматики на уровне мировых стандартов.
Я тогда сильно увлекался сюрреализмом, и когда понял, с чем едят все эти кубизм, супрематизм, или, одним словом, основу мирового искусства, приходил в восторг от Макса Эрнста, Миро, Сальвадора Дали, я просто заболел этим течением.

Проект Асхата для ЭКСПО-2017
Я делал что-то подобное в стиле сюрреализма. Принимал участие в выставках, когда состоял в группе шымкентских авангардистов. Но в 1996-м году, после выставки «Синий перец», наши пути начали расходиться.
Знания, полученные вне официальной программы в чимкентском художественном училище, реабилитировали перед нами западные ценности, на которые в советской системе образования были поставлены красные флажки.

Проект Асхата для ЭКСПО-2017
К примеру, в уральском худграфе, если речь касалась Дали, Магритта, Дельфо, Раушанберга или Юккера, преподаватели подносили их нам как холодное буржуазное искусство, отдалённое от реальных задач здравомыслящего художника и социалистической эстетики.
Советская пропаганда могла пропустить через фильтр идеологии Рокуэла Кента, некоторые работы Пикассо, итальянского графика Ренато Гуттузо, мексиканцев Диего Ривьера, и Сейкероса. Тем не менее, железный занавес был не идеален в своей прочности, и во второй половине 1980-х годов в киосках «Союзпечати» появился немецкий журнал Bildende Kunst, проливавший свет на мировое современное искусство.
Пигмалион и Айнур
У меня уже был печальный опыт, когда моему выбору не способствовала внутренняя зрелость, а сыграли роль внешние обстоятельства. С первой женой меня познакомила мама. После 13 лет мы с ней расстались. Кажется, у меня быстрее седеют волосы, когда я вспоминаю, что пришлось пережить моим сыновьям Данияру и Улугбеку. Первый жил у меня, и в 17 лет ушёл из дома, младший жил с матерью, будучи уже в чужой семье, и сильно ощущал моё отсутствие.
Сегодня Данияр и Улугбек стали дизайнерами, и сейчас работают вместе в Астане.
Я, в свою очередь, нуждался в спутнице, которая будет формировать наш дом, будет мне женой и другом. Мне было важно, чтобы в моем доме звучала казахская речь, которую может дать детям только женщина.
У меня получилось сильно поверить в желаемый образ девушки, я искал ту, что придумал в графике. Рисунок был проникнут теплотой, а я, в депрессивных холостяцких буднях по несколько раз в день разглядывал его. И, о чудо, спустя несколько месяцев я встретил ее! Мы с Айнур Касымовой вместе с 2005 года. Когда мы познакомились, ей был 21 год, а мне 40, но это не мешало нам быть вместе.
Огонь
В Астану попал сразу после моей первой европейской выставки в Берлине по линии ЦСИ Сорос. Буквально неделю после нее был в Чимкенте, жил не дома, а в чьей-то мастерской, перебирал вещи. А после устроил огромный костер во дворе Союза Художников, сжег все, что мне мешало. Оставил только самое необходимое. Сжег куртки, пальто, не представлял, что они могут понадобиться в Астане, была иллюзия, что мне хватит ветровки.

Если бы боль горела…
Огонь часто сопровождает меня, он верный индикатор моих поступков. Я еще в 1990-е годы сжег свои картины после возвращения из Чимкента из-за разочарования. Это был трудный период — на улицах былого «рая» Шымкента распоясался криминал, и я со своей первой «Евой» перебрались в уральский аул к родителям.
Для меня было ударом осознать, что я со своим сюром оказался на отшибе цивилизации и событий. Это была драма. Это было трудно пережить. И я вынес все свои картины во двор, облил бензином и сжег.
Время
Время в Шымкенте – это облако, которое может висеть в течение дня на одном месте. Там облака не плывут, стоят на одном месте, тем самым обманывают тебя, что время не такое быстрое, можешь никуда не торопиться. Проходит пять или шесть лет, и к тебе приходит озарение, что пролетело столько времени, а ты ничего за это время не сделал! И ты еще живешь здесь, и ты еще здесь сидишь?! И это начинает убивать. Там жарко, и вдруг в один день тебя это осознание словно холодной водой окатывает.

Здесь, в Астане время летит. Такое состояние, когда смотришь на облака, которые показывают, что время скоротечно, и все надо успеть, надо угнаться… Каждый день они очень быстро проплывают над тобой. Не надо иметь часов, достаточно посмотреть на облака.
В Алматы таких наблюдений я не делал, но этот город сам по себе насыщен жизнью. Он является центром культуры, чего-то, что можно воплотить в жизнь. Алматы — центр умов и талантов. В Астане только начинает в этом плане что-то меняться.
Когда я только собирался покинуть Шымкент, знакомая баксы – шаманка расшифровала мой сон. В моем сне в Шымкенте все кардинально начинает меняться – новая брусчатка, работают болгарки, вдруг мост откуда-то появляется… Я всегда думал, что в Шымкенте никогда ничего не будет меняться, а во сне вдруг все старое стало стремительно обновляться.
Баксы мне на это ответила, мол, дело не в Шымкенте, и спросила — ты куда собрался? Я ей – наверно, в Алматы. «Не обманывай себя, сынок! Алматы состарился, тебе туда не надо, — сказала шаманка — Тебе нужно ехать в Астану, она будет строиться, расти, там будут проходить статусные мероприятия». Это был 2000-й год.
Оберег бабушки
Как во сне пролетело время, когда я с пятью тысячами тенге в надежде не знаю на что приехал в Астану. На значительное время я выпал из арт -тусовок в современном искусстве, пока обустраивал свою жизнь. Построил дом в пригороде столицы. Родились дочери Бибинур и Мадина.
На участке вокруг дома растёт степная трава, но не принимаются деревья из-за солёности почвы и отсутствия пресной воды. Как-то, переживая за увядшие помидоры в огороде, вспомнил школьный приусадебный участок в интернациональном ауле из детства, где росло всё, что ни посадишь. Приснился сон, что за моим садом ухаживают две молодые красивые женщины… Прошла неделя, и я познакомился с одной из девушек того самого «сада». Это была Дина Байтасова. В то время она в партнёрстве с Индирой Дуйсибаевой учредили арт-ассоциацию IADA в Париже, и работали над раскруткой новых имен в казахстанском современном искусстве. Дине меня порекомендовала известная художница Алмагуль Мельнибаева. Вот так с 2013 года началось мое сотрудничество с Диной.
Она выступала как куратор, и я участвовал в международной ярмарке Дубай арт-маркет, во внеконкурсной программе 56-го венецианского биеннале «Протагонисты», Арт-резиденции в Париже, и в ряде других выставок. Кроме того, Дина посодействовала моей плодотворной работе с Национальным музеем Казахстана. В 2016 году при поддержке директора Национального музея Дархана Мынбая, куратора Байтасовой и руководителя центра современного Искусства Розы Абеновой организовали мою персональную выставку «Единственное множественное». На EXPO-2017 при содействии Дины в коллекцию Национального павильона были приобретены три моих проекта.

Лондон. Работа Асхата «Әженің көзі»
2017 год стал очень удачным для меня во всем: я приобрёл квартиру в новом комфортабельном доме, где появилась на свет ещё одна дочь. Моя мама дала ей имя Риза.
Индира Дуйсибаева и Алия Тизенхаусен в сентябре этого года были кураторами выставки в Лондоне «Постномадические горизонты», где на суд зрителей был представлен мой известный проект «Әженің көзі» (Оберег бабушки).

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы  Асар в Украине
Асар в Украине 

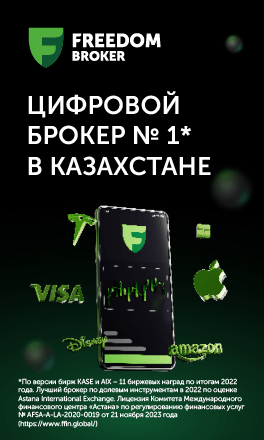
Комментариев пока нет