Как бюрократия уничтожала «Эстетику кочевья» Мурата Ауэзова
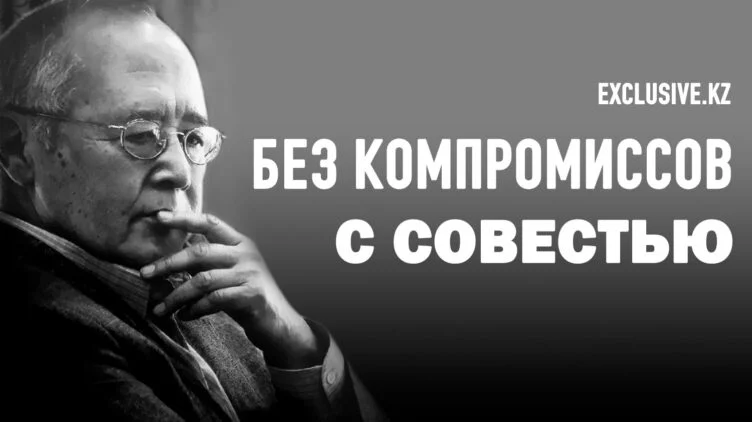
В следующем году будет 50 лет, как пустили под нож весь тираж «Эстетики кочевья» – коллективной монографии под редакией Мурата Ауэзова. Его близкие намерены переиздать книгу на казахском и английском языках. Но, к сожалению, этот выдающийся человек ее уже не увидит. О том, как это происходило, он рассказал в одном из своих последних интервью дочери – Зифе-Алуа Аузовой.
… «В 1969 году я закончил свое десятилетнее обучение в Москве: шесть лет университета, год стажировки в институте стран Азии и Африки, три года аспирантуры.
В те годы в правительстве Казахстана была группа патриотически настроенных чиновников. К их числу относился министр образрвания Каазхской ССР Кали Билялов. Еще в 1966 году он поддержал меня и Болатхана Тайжанова, лидеров «Жас Тулпара», в нашем желании пройти аспирантуру в московских вузах: я хотел в Институт мировой литературы, а Болатхан – в Институт экономики. Так и получилось.
В Алма-Ату я возвращался полным радужных планов относительно работы. Думал, что профессионально созрел для этого, пройдя мощную школу в Москве. В аспирантские годы за публикации в журнале «Дружба народов» я два года подряд был отмечен премиями журнала, как лучший автор-внештатник. Это было невероятно высокая оценка для молодого учёного. Поэтому я думал, что без труда смогу найти работу на родине. Планировал, что буду преподавать теорию литературы в КазГУ. К такой работе я готовился после окончания аспирантуры, но ещё до защиты диссертации.

И вот я в КазГУ. Захожу к чиновнику, занимавшемуся распределением молодых специалистов. Его лица не запомнил, в памяти осталась разве что неприятная гримаса, когда я рассказывал ему о своих исследованиях, о планах на преподавательской стезе. Он достаточно равнодушно слушал, потом, глядя мне вглаза, спокойно так сказал: «А вы разве не знаете, что вам запрещено работать со студентами?»
Я очень удивился, но подумал, что это какие-то установки, касающиеся именно этого университета. Стал интересоваться возможностями получить работу в других местах. И везде слышал то же самое – «нет». Мне стало ясно, что в отношении меня были даны какие-то особые указания.
У меня были хорошие отношения с заведующим отделом культуры ЦК Компартии Казахстана Михаилом Ивановичем Исиналиевым. Несмотря на то, что он был партийным функционером, этот человек отличался прогрессивными взглядами.
Когда я рассказал ему о своей ситуации, он обратился к своему другу, сокурснику по Центральной комсомольской школе, заместителю главного редактора «Литературной газеты» и тот предложил мне работу в Москве в возглавляемом им издании.
Но немного ранее в поисках работы я обратился еще и к Лейле Мухтаровне Ауэзовой, своей старшей сестре. После смерти отца она как будто бы взяла на себя ответственность за меня и всегда старалась мне помочь. Сестра стала думать, в каком из подразделений Академии наук я мог бы найти применение своим знаниям. Когда выяснилось, что в Институте литературы Академии Наук мое появление в качестве сотрудника нежелательно, обратилась в Институт философии и права.
Там как раз назначили нового директора – Токтагали Жангельдина, который до этого был заведующим отдела науки ЦК Компартии Казахстана. Как ученый он, конечно же, не был таким корифеем, как его прешественник – юрист Салык Зиманов, пользовавшийся громадным авторитетм в ученых кругах как создатель своей юридической школы. Зато Жангельдин среди казахской интеллигенции был известен как высокопорядочный человек. Впрочем, как и Зиманов, они ведь оба прошли закалку войной. Он взял меня в свой инстиут в отдел научного коммунизма, где заведующим был Марат Сужиков. Когда встал вопрос о том, чем я мог бы там заниматься, пришла идея остановиться на такой теме как эстетика, так как она входила в формат философии. Я предложил обратиться к мировоззренческой основе традиционного искусства казахов – эстетике кочевников. Для тех времен это было диковинкой, но возражений не было.
Более того, когда я спросил, могу ли набрать группу из числа молодых ученых для исследования этой новой для всех темы, то руководство опять пошло навстречу. И также, как для философа Агына Касымжанова, который занимался наследием аль-Фараби, был создан новый отдел. Туда были приглашены филолог Канат Нурланова, этномузыковеды Булат Каракулов и Асия Махамбетова, геолог и палеонтолог Алан Медоев, уже известный филолог-фольклорист Едыге Турсунов, архитектор Бек Ибраев…
И вот в полуосвещенном подвале Института философии и права появилась группа увлеченных молодых нонконформистов с новой темой. Нас поддерживал на всех уровнях. Нашим искренним болельщиком был, например, историк Рамазан Сулейменов, чье имя сейчас носит сегодня Институт востоковедения АН РК. Салык Зиманов, продолжавший работу с одним из отделов Института философии и права, оказывал нам всяческую поддержку. Через три года работы проект монографии был готов. Так как нас всюду предупреждали, чтобы мы не использовали термин «кочевники» или «номады», то она носила рабочее название «Познание мира в традиционном казахском искусстве».
У Алана Медоева были хорошие знакомые в типографии. Когда наша книга (теперь она приобрела название – «Эстетика кочевья») была окончательно готова, нам, авторам, разрешили прийти посмотреть на отпечатанный тираж. Стопки книг – три тысячи экземпляров – лежали повсюду. Радость была бесконечной! Каждому из нас разрешили взять по одной книге, учет тиража был сделан уже после этого. Выжил только этот десяток эксземпляров, потому что потом весь тираж был полностью уничтожен, не выходя из стен типографии. Работавшие там женщины пробовали было взять себе по экземпляру, но им, угрожая тюремными сроками, не позволили. Повсюду установили наблюдение, и никого к этим книгам не допускали.
Установка на ликивдацию «Эстетики кочевья» шла напрямую от секретаря ЦК по идеологии Саттара Имашева. Мне доводилось встречаться с ним в Москве в постпредстве Казахстана в аспирантские годы. Увидев меня, он сказал: «А, так вот какой ты, Мурат Ауэзов!» Сказано это было с явной неприязнью. Было ясно, что дружественных отношений с этим человеком у меня не будет. А тогда наш с ним разговор был о «Жас Тулпаре». Вернее будет сказать, что это была атака на наше молодежное движение со стороны партиййного идеолога. Не только Имашев, большая часть партийных функциоеров была страшно перепугана, когда оно появилось. Они даже призывали наказать лидеров «Жас тулпара», в число которых входил и я тоже. Наказание за инакомыслие нашло продолжение в расправе над «Эстетикой кочевья». Токтагали Жангельдин скончался за два года до этих событий, – в 1973 году. Директором Института философии и права в то время был уже философ, изучавший гегельянцев, Жабайхан Абдильдин»…
– В следующем году будет 50-летие этой монографии, – говорит Зифа Алуа-Ауэзова. – Есть планы переиздать книгу на казахском и английском. Это было бы справедливо по отношению к авторам, которые были лишены возможности увидеть свои тексты в книжном виде. «Эстетика кочевья» после 1975 года издавалаьс только один один – в 1993 году в очень усеченнмо виде. Ну а что касается папы, то какое бы давление на него не оказывали, он остался последовательным в своих взглядах до конца жизни и никогда не шел на компромисс с совестью даже под сильным внешним давлением. Думаю, это связано с именем отца – он видел себя продолжателем рода и фамилии Мухтара Ауэзова. Понятие чести было унаследовано им на самом базовом уровне самосознания. Это центральное или центровое понятие абсолютно исключало какие-либо компромиссы в тех моментах, когда его интуиция, знание мира, понимание справедливости говорили ему, что что-то идет не совсем так. Этого жизненного компаса, связанного с человеческими правами и достоинством не только своим, но и всех окружающих, он и придерживался всю жизнь.





Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.