Как и почему тюрки задумали противостояние с Москвой
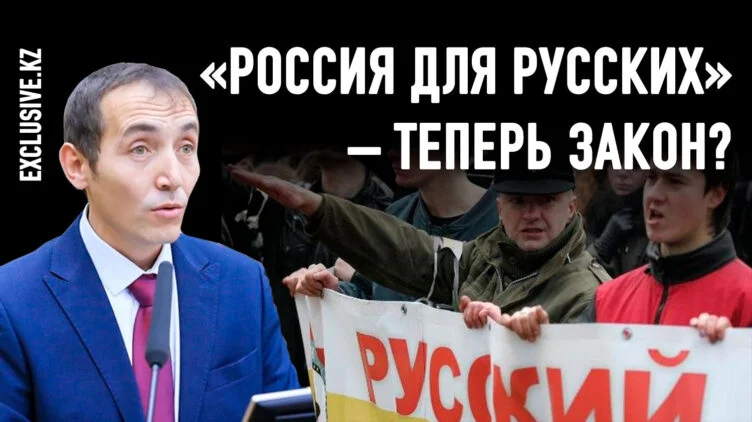
Новость о том, что депутат парламента Якутии выступил с эмоциональной речью, в которой, критикуя реформу местного самоуправления, призвал тюркских народов к единению, вызвала большой резонанс. В связи с этим Exclusive.kz подробно изучил, что это за реформа и почему представители хакасов, татаров, башкир и других народов так резко начали высказываться против неё.
В 2020 году поправками в Конституцию России было закреплено понятие «единой системы публичной власти». Новая формулировка размыла границы между государственной и муниципальной властью, открывая дорогу к полной интеграции местного самоуправления в вертикаль власти. И уже в 2021 году сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, который должен был эту идею довести до конца.
В его основе лежала радикальная реформа: вместо двухуровневой системы (сельские и городские поселения, объединённые в районы) предлагалось перейти к одноуровневой, оставив только муниципальные и городские округа. Иными словами, предполагалась ликвидация низового звена, – того самого, которое всегда считалось наиболее близким к жителям. Авторы закона объясняли это необходимостью убрать дублирование функций, сократить армию местных депутатов и сделать управление более эффективным. Но уже тогда многие эксперты предупреждали: речь идёт не о реформе ради удобства, а о последовательной централизации и отдалении власти от людей.
В 2022 году законопроект был принят в первом чтении, однако из-за новых военных приоритетов второе чтение длительное время откладывалось. «Спецоперация» и присоединение новых территорий сделали вопрос о МСУ второстепенным. Тем не менее, реформу никто не отменял. За прошедший период на стол депутатам поступило более 900 поправок, регионы требовали учёта своих интересов. В разных регионах параллельно начали проводить эксперименты: например, в Подмосковье и Пермском крае укрупняли муниципалитеты, ликвидируя сельсоветы. Очень быстро это привело к последствиям: жители стали жаловаться на то, что больше не могут получить элементарные услуги на месте, а новые окружные администрации игнорируют бытовые запросы.

В ходе обсуждений реформы от представителей разных регионов звучали разные требования. Например, петербургские власти предложили лишить муниципалов даже их скромных полномочий – по благоустройству, озеленению, устройству детских площадок. Фактически им оставляли право проводить праздники и выпускать районные газеты. А вот в Татарстане, напротив, разгорелась жёсткая дискуссия: парламент республики категорически выступил против перехода к одноуровневой системе, заявив, что это «разрушит село». Президент Татарстана Рустам Минниханов прямо говорил о невозможности управлять огромной страной «одним шаблоном». Аргументы звучали не только политические, но и культурные: именно деревня, по словам депутатов, хранит язык, традиции и уклад народов, и лишение её органа власти означает прямую угрозу идентичности. Ну а алтайские депутаты прямо заявляли о «лицемерии власти», отмечая, что под предлогом «повышения эффективности» граждан лишают последнего канала влияния на решения. В обществе усиливались протестные настроения.
И всё-таки к началу 2025 года законопроект вернулся в Госдуму. В феврале и марте его стремительно приняли во втором и третьем чтениях. Дискуссия была жаркой: коммунисты говорили о «последнем гвозде в гроб местного самоуправления», другие оппозиционные депутаты утверждали, что Россия отрезает у себя «шаговую доступность власти».
В итоге депутаты пошли на условный компромисс: регионам не стали диктовать модель, а оставили формальное право самим выбирать – сохранять два уровня или переходить к одному. Впрочем, в кулуарах все понимали: большинство субъектов уже настроены на одноуровневую систему, ведь именно так проще управлять финансами и не допускать появления независимых фигур на низовом уровне. Очень быстро после утверждения закона в апреле, стало ясно: к 2027 году Россия должна полностью перестроить свою систему МСУ.
Почему же реформа вызвала такую волну возмущения? Ответ лежит сразу в нескольких плоскостях. Для рядовых граждан исчезновение сельсовета означает, что дорога к власти теперь измеряется десятками километров. Местный депутат, к которому можно было прийти с проблемой снега во дворе или ремонта школы, исчезает. Вместо этого есть окружная администрация, где жители – лишь бумажки в очереди. Для муниципалитетов же это означает потерю финансовой базы. Обещанная «экономия» обернулась тем, что долг МСУ по всей стране остаётся на уровне почти 380 миллиардов рублей, а реальных денег на развитие территорий нет. Для мэров и глав посёлков это превращение в «вассалов»: губернаторы могут их увольнять за «недостижение показателей», которые никто чётко не определил. А для национальных республик это удар по самому укладу жизни: деревня как хранитель языка и традиций теряет статус политического субъекта.
Реакция общества проявилась по-разному. В крупных городах говорили о конфликте мэров и губернаторов: областные власти начали забирать у мэрий полномочия в сфере земли и градостроительства, лишая их доходов и влияния. В сёлах звучали конкретные жалобы: в Пермском крае люди полгода не могли получить льготы и дрова, пока шло перерегулирование. В Петербурге муниципалы пытались сопротивляться лишению полномочий, но наталкивались на решение губернатора. В Татарстане и Башкортостане критика шла на уровне парламентов. В Алтае и Якутии протест приобрёл национальное измерение: именно здесь депутаты стали говорить о том, что уничтожение сельских структур – это не просто бюрократия, а сознательное разрушение культуры. В конце концов в Горном Алтае прозвучала та самая речь о единстве тюрков.
Эта речь стала символом того, что муниципальная реформа переросла рамки «административной оптимизации». Для Москвы она была шагом к укреплению вертикали, для регионов – лишением самостоятельности, для граждан – потерей доступа к власти, а для национальных республик – угрозой идентичности. Александр Иванов, говоря о «200 миллионах тюрков», выразил то, что многие чувствуют: реформы центра — это не только про финансы и управление, но и про то, кто мы есть и что оставим после себя.
Сегодня, когда закон уже принят, остаётся главный вопрос: что ждёт Россию дальше? На короткой дистанции система станет проще для Кремля: меньше выборов, меньше депутатов, меньше непредсказуемых решений. Но на длинной – это создаёт почву для накопления недовольства.
В советское время сеть сельсоветов помогала власти гасить протесты, позволяя людям чувствовать участие в управлении. Теперь же вертикаль обрывается на уровне регионов, и пространство для локальных протестов расширяется. Люди, не имея возможности достучаться до власти законным путём, будут искать другие формы выражения недовольства.
Для казахстанской аудитории история российской реформы – это предупреждение: централизация под видом «эффективности» не решает проблем, а лишь откладывает их, превращая бытовые конфликты в политические. Местное самоуправление должно быть не фикцией, а реальной возможностью граждан влиять на жизнь вокруг. Иначе оно становится пустой оболочкой, внутри которой накапливается раздражение, способное прорваться в самый неожиданный момент.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.





Россия — страна репрессий! Те, кому удалось выйти из под ее «опеки» счастливы и у них есть будущее!!!
В целом возврат к советскому постулату:партия сказала-надо,народ ответил-есть😬