Как Казахстан сделали экспериментальной идеологической площадкой

Казахстан был самой идеологически ангажированной страной, где проходили все эксперименты Советского Союза: целинная эпопея, испытания атомного оружия, русификация, создание «национального» кино и возрождение айтысов «под строгим контролем». Как пишет публицист Айнаш Керней, чтобы «говорить с қазақами на их языке и доносить нужную информацию».
Что касается казахстанского кино, то, по словам киноведа Гульнары Абикеевой, в советский период оно не испытало такого взлета, как кыргызское или узбекское.

– Казахстан был очень сильно подвержен идеологии, поэтому, если не брать ярких личностей, огромное количество картин снималось заказного, производственного и историко-революционного характера. Для нас был создан свой местечковый кинофестиваль – смотр-конкурс фильмов Средней Азии и Казахстана. Поэтому мир и был удивлен в 80-е «Казахской новой волной» – абсолютно европейским по уровню кинематографом с азиатскими лицами и ментальностью.
– Вы только что вернулись с научной стажировки в Кембридже. Чем вы там занимались?

– Она состоялась благодаря профессору Катрионе Келли, ключевому специалисту по советской культуре и литературе. Это она меня пригласила в Кембридж, где я полгода занималась своим исследованием «Кино Центральной Азии советского периода».
– А разве оно проводилось не в рамках программы «Болашак» – «500 ученых»?
– Нет. К сожалению. Там есть возрастные ограничения – до 56 лет для женщин, для 59– для мужчин. Конечно, для самого слова «Болашак» это, наверное, правильно, а вот ограничения в возрасте для ученых – смешно. Судя по ним, жизнь ученых заканчивается в 60 лет, хотя мировой опыт показывает, что именно к этому возрасту происходит полноценное становление ученого.
Но я хотела бы сказать о другом. Сейчас, когда в мире происходит «отмена русской культуры», Запад направляет своих студентов на практику в страны постсоветского пространства. Теперь они, можно сказать, вынуждены больше изучать Центральную Азию, Кавказ и Прибалтику. Даже в учебных программах западных вузов происходят изменения. Я это четко увидела на славистской конференции в Бостоне в ноябре прошлого года. Вопрос о том, чем будут заниматься в ближайшем будущем и как строить свои учебные программы ученые-слависты – стал одним из актуальнейших.
– Можно ли поподробнее про эту «отмену»?
– Дело в том, что западные санкции по отношению к России носят не только экономический характер. Это еще и протест против развязанной ею войны на всех уровнях, в том числе и в академической сфере. Это и означает «отмена»: студенты меньше учат русский язык, в университетах преподают, в основном, классическую русскую литературу – Толстого, Достоевского, не уделяя особого внимания современному культурному процессу. Кинематографисты не ездят на российские кинофестивали, русские фильмы не попадают на мировые кинофестивали и т.д. Когда-нибудь это все, конечно, закончится, а пока эту опустевшую нишу надо заполнять, в том числе и культурой Центральной Азии.
– Но это же хорошо для наших – казахской, кыргызской, узбекской и т.д. – культур?
– Да, безусловно. Более того, ситуация последних трех лет заставляет нас активно переосмысливать наши ценности и достижения в постколониальном контексте. По разным причинам этого не было сделано на заре нашей независимости, но началось теперь, спустя более, чем тридцать лет. Невозможно строить будущее, не попрощавшись с прошлым, а проститься можно, только узнав и раскрыв всю историческую правду. Поэтому в последние годы появились фильмы и книги о Ашаршылыке, об Алаш-орде, о «Раскрепощении женщины Востока», о коллективизации и т.д.
– А как вы оцениваете вклад русских в казахстанский кинематограф?
– В годы войны в Алма-Ату были эвакуированы киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» вместе с сильнейшими кинокадрами СССР того времени. Здесь с 1941-го по 1944 годы работала ЦОКС – Центральная Объединенная киностудия. Недавно в театре «АРТиШОК» прошла презентация книги известной писательницы Гюзель Яхиной «Эйзен», где она рассказывала о ЦОКСе и Сергее Эйзенштейне, в частности. Цифры и имена говорили сами за себя: 100 литераторов, 500 кинематографистов, композиторы, художники… Естественно, было обширное общение, вовлечение в кинопроизводство, подготовка кадров. Поскольку ВГИК работал здесь, обучались профессионалы второго состава, частично на казахскую киностудию было передано кинооборудование.
Что касается вклада русских в казахстанский кинематограф, то ЦОКС и большие мастера уехали, а у нас остались работать режиссеры второго плана, которые не сняли в России ничего выдающегося, но в Казахстане они снимали идеологическое советское кино. Ефим Арон – «Белая роза», приставленный к Шакену Айманову Карл Гаккель – «Дочь степей», Павел Боголюбов – «Девушка-джигит», Ефим Дзиган – «Джамбул», Александр Карпов – «Сказ о матери». Можно сказать, что Казахстану не повезло – мы стали площадкой, на которой Советский Союз проводил социально-культурные и физические эксперименты. Физические – это атомные взрывы, целина, седентеризация, орошение, разрушавшие нашу землю и нацию. Социально-культурные – русификация, внедрение советских идеологем, уничтожение интеллигенции и национального самосознания. И кино в этом ряду «экспериментов» играло ужасную пропагандистскую роль. Невозможно смотреть без боли такие фильмы как «Амангельды», «Девушка-джигит» и многие другие советские казахские фильмы, снятые «варягами».
Советская эпоха имела цивилизационное значение для развития Казахстана во многих отраслях, и кино не исключение. Но есть оборотная сторона СССР – идеологическая, когда официально существовала формула «национальное по форме, социалистическое по содержанию». Она означала, что кроме внешних признаков – орнамента и костюмов – не должно быть ничего национального. Вот такое у нас кино и снималось – без национальной идентичности, без духа нации и народа. Хорошо, что с приходом хрущевской «оттепели» национальное кино поднялось на территории всего советского пространства и наши мастера – Шакен Айманов, Султан Ходжиков, Мажит Бегалин, Абдулла Карсакбаев – смогли создать настоящие, казахские по духу, фильмы. Но делалось это не благодаря, а вопреки советской пропаганде.
– А разве нельзя было исследование по советскому кино в Центральной Азии сделать в Ташкенте или Бишкеке, а не в Кембридже?
– Я собираюсь поехать и в Ташкент, и в Бишкек, и в Душанбе, чтобы посидеть там в архивах. Советское кино нашего региона – это огромный кладезь для исследований. А прозвучавший сейчас вопрос разделю на две части: зачем мне был нужен Кембридж и зачем я была нужна Кембриджу?
Так сложилось, что, вернувшись в Алматы, я попала на одну нашу из гуманитарных конференций. Там удивилась тому, что докладчики ссылались только на российских или казахстанских авторов. Впрочем, я и сама раньше так делала. Для нас это было нормально, но абсолютно не допустимо в мировой практике. Так вот, в Кебриджском университете за полгода я прочитала или просмотрела почти все книги про советское кино, изданные на Западе. Их порядка ста. При этом книг, полностью посвященных нашему региону, всего пять. Это – «Кино советской Центральной Азии» Жана Радвани на французском языке (1992); «Кино в Центральной Азии. Переписанная культурная история», где редакторами-составителями выступили Майкл Роуланд, Биргит Боймерс и я (2013); «Кино и идентичность в Казахстане» Рико Исаака (2018); «Кино, нация и империя: Узбекистан. 1919-1937», Хлое Дрие (2019); «Кино Советского Казахстана. Непростое наследие. 1925-1991». Питер Роллберг (2021).
Эти пять книг у меня и раньше были, но мне было очень важно ознакомиться со всем тем, что написано про «советскую культуру», особенно в плане методологии.
Стажировка – не только чтение книг и статей, но прежде всего знакомство со специалистами. Так, Катриона Келли – большой знаток советской литературы и культуры, Джулиан Граффи и Биргит Боймерс – ведущие британские специалисты по советскому и постсоветскому кино, Эмма Видис занимается ранним советским кино, Фил Кавендиш – Дзигой Вертовым, Александр Моррисон и Беатриче Пенатти – историей Центральной Азии. Я посещала лекции, семинары, круглые столы, участвовала в конференциях, сама делала презентации в Кембридже и в Лондоне.
Ознакомившись со всей этой западной литературой, я поняла – советское кино Центральной Азии на Западе изучено мало.
Описано раннее кино 1920-1930-х годов русских документалистов Вертова, Турина, Ерофеева. ЦОКС – про Эйзенштейна. Немного написано про фильмы Али Хамраева из-за истернов и про «Казахскую новую волну» 1980-х годов. И все! Огромные пласты нашего кино не были доступны западным исследователям, так как оно не попадало на кинофестивали в советское время. Их просто туда не посылали, считая, что лучшее советское кино – русское. Для нас был создан свой местечковый кинофестиваль – смотр-конкурс фильмов Средней Азии и Казахстана. Поэтому мир после падения «железной стены» был удивлен «Казахской новой волной» – абсолютно европейским по уровню кинематографом с азиатскими лицами и ментальностью.
Эта стажировка в Кембридж была важна для того, чтобы понять, какая же большая брешь существует в изучении нашей культуры на Западе. Я нужна была Кембриджу, чтобы чуть-чуть раскрыть наше кинематографическое богатство.
– А кто должен заполнить эту брешь? Вы?
– Один человек не может этого сделать. Я думаю, это должны сделать молодые казахские ученые, которые получили образование на Западе. Это то поколение, которым сегодня под сорок лет. Ничего не появляется на ровном месте. В Казахстане работала программа «Болашак», которая позволяла учиться сначала на бакалавриате, а сегодня в магистратуре и докторантуре ведущих западных вузов. Чтобы вырасти в настоящего ученого, надо пройти полный цикл, а это не менее десяти-двенадцати лет. Плюс еще лет пять надо поработать, чтобы пришла уверенность. И вот теперь появились наши первые западные ученые-казахи. Это – социолог Диана Кудайбергенова, у которой вышла уже четвертая книга на Западе, она сейчас преподает в Лондоне. Историк культуры Нариман Шелекпаев – профессор Йеля, он пишет сейчас книгу о транзитных городах, об Алма-Ате, в том числе. Антрополог Алима Бисенова, профессор Назарбаев университета, ведет телепрограмму по культуре. Надеюсь, и киноведы вскоре появятся. То, что у нас появилось первое поколение казахов – западных ученых – это круто!
– Означает ли это, что в плане независимого развития у Казахстана есть будущее?
– Историю назад не вернешь, а молодежь у нас яркая, талантливая, свободная. Возьмем хотя бы подкасты мультимедийного проекта «Qalam», где идут глубокие размышления об истории и культуре Казахстана, или книги и журналы, которые издает арт-центр «Целинный». Это – голос нового поколения, которое строит новый Казахстан.

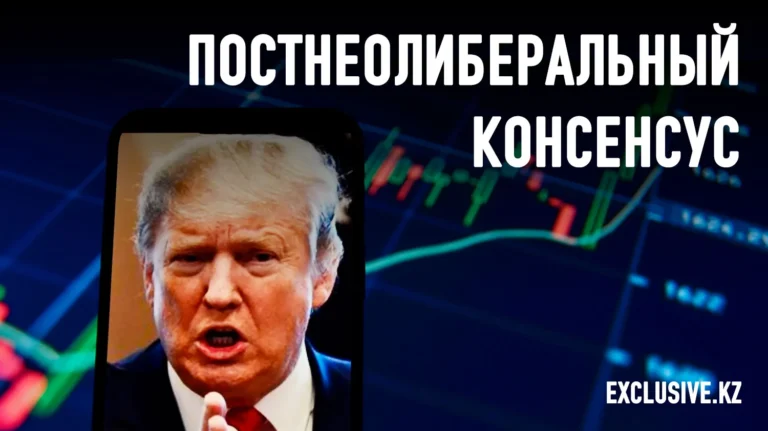



Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.