Как Кремль использует для репрессий финансовую систему Запада
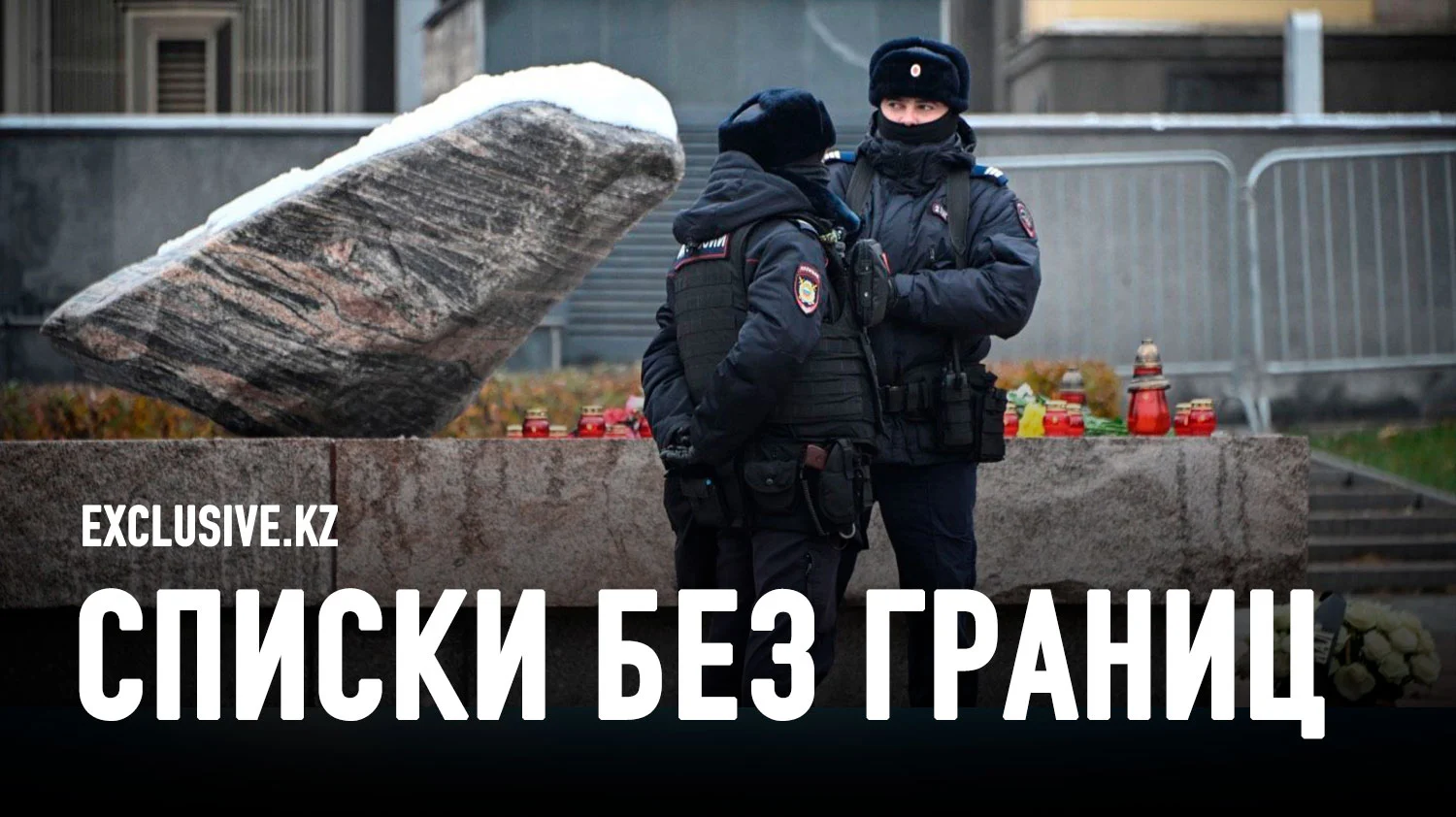
Международные стандарты комплаенса и противодействия отмыванию денег сейчас сформулированы так, что для западной финансовой системы все выглядят одинаково рискованно – что политзаключенный из России, что реальный боевик ИГИЛ.
За почти четыре года войны против Украины Кремль освоил и масштабировал новый вид репрессий – превращение людей в «террористов» и «экстремистов» по взмаху пера Росфинмониторинга, органа, отвечающего за борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма. Попадание в его черный список означает проблемы не только в России, где замораживаются все активы попавшего, но и за границей.
Объявление «террористом» или «экстремистом» запускает цепную реакцию и в западной финансовой системе. Любые банки начинают требовать дополнительные документы для безобидных транзакций. Или просто закрывают счета, не желая связываться с «проблемным клиентом из списка». Избавиться от ярлыка, повешенного российскими властями, крайне сложно и дорого – причем все издержки несет потерпевший.
Better safe than sorry

До войны в список Росфинмониторинга в части терроризма попадали в основном боевики, связанные с исламским фундаментализмом. Позже в него добавили Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, самого оппозиционера и его ближайших соратников. Но с началом российского вторжения в Украину список стал стремительно расширяться за счет любых критиков российского режима.
Только за последние пару недель туда включили блогера Илью Варламова, историка русской кухни Павла Сюткина, исследовательницу РПЦ Ксению Лученко, политика Илью Яшина и политолога Екатерину Шульман. Список пополняется на 250–300 человек в месяц. Новая форма трансграничных репрессий затронула уже несколько тысяч человек. И похоже, это только начало.
Когда Росфинмониторинг обновляет список террористов и экстремистов, информация автоматически попадает к специализированным компаниям, которые агрегируют большие массивы данных о людях и компаниях для систем KYC/AML (know your customer/anti money laundering), которую используют банки и другие финансовые учреждения по всему миру. Три кита этого глобального рынка: Dow Jones Risk & Compliance, LexisNexis и Refinitiv World-Check.
Их базы данных содержат списки санкционированных лиц и типы санкций, политически значимых персон (PEP), adverse media – негативные упоминания в СМИ и официальных источниках. Эти данные используются при проведении due diligence (комплексной проверки рисков) перед открытием счетов, сделками об инвестировании, слияниями и поглощениями, а также многими другими операциями.
Процесс автоматизирован на 95–99%. Алгоритмы сканируют новости, судебные решения, правительственные сайты. Когда у человека или компании меняется статус, то банк получает уведомление о том, что «клиент упомянут в контексте терроризма». Дальше стандартная процедура: заморозка операций, запрос дополнительных документов. Иногда удается оправдаться, но чаще всего банк предпочитает прекратить дела с таким клиентом.
Better safe than sorry – главный принцип индустрии. Регуляторы жестко штрафуют банки за пропущенные риски. HSBC заплатил $1,9 млрд за отмывание денег мексиканских картелей. А вот наказания за ложное срабатывание или слишком жесткий комплаенс не предусмотрено. Поэтому банку проще отказать сомнительному клиенту, чем тратить ресурсы на разбирательства или содержать дорогостоящий комплаенс, проверяющий такие случаи вручную.
Масштаб проблемы
Российский список террористов и экстремистов стал расти особенно быстро после того, как в конце 2024 года Госдума приняла закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга. В перечень действий, за которые граждане могут быть признаны «экстремистами», включили все виды политических преступлений вроде распространения ложной информации о действиях российской армии, демонстрации запрещенных символов и угроз территориальной целостности РФ.
По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на конец 2024 года в российском списке «террористов и экстремистов» было более 20 тысяч фамилий. Понятно, что далеко не все из них хоть как-то связаны с бандподпольем или наркокартелями, потому что скорость расширения списка стремительно увеличивается.
За весь 2020 год власти добавили туда 1381 человека, за 2021 год – 1774, а за неполный 2025 год (до середины октября) этот показатель составил уже 3031 человек. В среднем получается более трехсот человек в месяц.
Каждый десятый человек, признанный российскими правоохранителями «террористом», – несовершеннолетний. По подсчетам «Новой газеты Европа», доля тех, кому еще не исполнилось 18 лет, начала расти в списке в 2023 году. А дальше только за неполный 2025 год в перечень добавили 249 подростков, 81 из них на момент добавления не было и 16 лет.
Россия не единственная страна, использующая международные правила комплаенса как инструмент политических репрессий. В Беларуси подобных списков несколько, суммарно в них более 1500 человек. Туда включены всем списочным составом работники целых правозащитных организаций, СМИ, профсоюзов.
Сооснователь медиапроекта «Трибуна» белорус Дмитрий Навоша недавно проиграл апелляцию по этому вопросу в Британии. Суть претензии: компания Dow Jones Risk & Compliance описывает Навошу единственной строчкой – «террорист по версии КГБ». Никакого контекста, никаких альтернативных точек зрения.
Тем не менее Information Commissioner’s Office (ICO) ответил ему отказом: «Хотя мы отмечаем обеспокоенность по поводу судебной системы Беларуси, ICO не вправе оспаривать решения судов Беларуси». С правовой точки зрения ICO и data-провайдеры правы – они не могут нести ответственность за проверку легитимности обвинений.
Похожим образом в начале ноября клиенты популярного финансового сервиса Revolut из России, живущие в Европе по долгосрочным национальным визам D, получили письма о заморозке своих счетов. Revolut объяснил свои действия 19-м пакетом санкций ЕС, согласно которому кредитным организациям запрещено предоставлять платежные услуги или услуги электронных денег россиянам и белорусам, если у них нет действующего временного или постоянного вида на жительство в странах ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии – либо гражданства этих стран.
Дело в том, что в бытовом смысле долгосрочная виза D мало чем отличается от временного вида на жительство: люди въезжают в ЕС по визе, а затем начинают процесс оформления ВНЖ. Но юридически в документах Евросоюза эти понятия различаются. А поскольку бремя проверки лежит на провайдере финансовых услуг, после уточнения санкций системы Revolut сработали автоматически.
После начала войны и введения западных санкций многие банки вообще предпочли полностью прекратить работу с клиентами из России или российского происхождения, показал опрос Reuters, в котором приняли участие люди из самых разных групп: студенты, мать двух детей, прожившая в Германии 20 лет, два российских оппозиционных активиста. Все они столкнулись с закрытием счетов или отказами в открытии новых после февраля 2022 года, несмотря на то что сами не подпадают под санкции.
Банки указывают разные причины: санкции, внутренние требования. Но за всем этим стоит автоматическое изменение риск-профиля в системе KYC. Для западной финансовой системы все выглядят одинаково рискованно – что политзаключенный из России, что реальный боевик ИГИЛ.
Системная слепота
Стандарты комплаенса и противодействия отмыванию денег задает международная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). При желании авторитарные режимы могут использовать как оружие практически весь свод ее правил. Например, рекомендация № 6 FATF обязывает страны применять финансовые санкции против террористов из списка, утвержденного Советом Безопасности ООН (резолюции 1267 и 1373). Страны должны сами выявлять подозрительных людей и организации, а затем предлагать включить их в список террористов.
Рекомендации № 3 и № 5 требуют от стран криминализировать отмывание денег и финансирование терроризма и экстремизма. Но на практике власти многих стран, включая Россию, злоупотребляют расплывчатым определением терроризма в своих законах. Это позволяет предъявлять террористические обвинения практически кому угодно – часто на основе слабых доказательств или вообще без них.
Другой популярный инструмент – рекомендация № 4 о заморозке активов. Для блокировки чьих-то денег достаточно простого подозрения – никаких серьезных доказательств не требуется. После заморозки жертва сталкивается с непреодолимыми барьерами: суды не отвечают на апелляции, слушания не назначаются месяцами. Даже когда срок заморозки формально истекает, банки боятся размораживать счета без официального разрешения регулятора.
Проблема в том, что FATF проверяет только то, насколько хорошо работают процедуры – правильно ли страна замораживает счета, проводятся ли проверки вовремя. Организация не оценивает, справедливы ли сами обвинения в терроризме и законно ли человек попал в список. Эта техническая слепота открывает двери для злоупотреблений.
Не только FATF
Подобные проблемы возникают не только из-за того, как составлены рекомендации по борьбе с отмыванием денег. Есть и другие причины. Например, data-провайдеры зарабатывают на объеме данных. Чем больше рисков содержится в базе, тем ценнее продукт для комплаенса.
Юридически провайдеры защищены: они не выносят суждений, а лишь агрегируют информацию. В случае с Навошей формально Dow Jones прав – КГБ Беларуси действительно объявил его террористом. А то, что это преследование политическое, – не их проблема. Компании, конечно, проверяют и уточняют собственные методологии формирования риск-профилей, используют инструменты ИИ, работают с местными языками. Но это самоописание, без внешнего аудита и без регулирования.
В результате банки предпочитают отказывать целым категориям клиентов, чем разбираться с каждым случаем индивидуально. Эта проблема называется глобальный de-risking. По оценкам Всемирного банка, в 2015–2018 годах она затронула более 700 миллионов людей, преимущественно в странах со средним и низким уровнем дохода. Несмотря на ревизию стандартов FATF в 2023 году, проблема de-risking сохраняется.
Все транзакционные издержки после попадания в списки несет жертва. Фигуранту нужно нанимать дорогостоящих юристов, чтобы взаимодействовать с банками в Европе и Америке, искать выходы на data-провайдеров и уговаривать их дополнить риск-профиль. По сумме понесенных потерь это может быть самой дорогостоящей санкцией.
Еще не конец
Отсутствие механизмов для политической оценки национальных террористических списков – глобальная проблема, которая будет только нарастать. Временным решением может быть систематизация формальных признаков злоупотреблений. Например, если страна добавляет в список по 300 человек ежемесячно, а 10% из них несовершеннолетние, – это уже сигнал, что относиться к ее данным надо осторожно. Создание перечней таких стран, злоупотребляющих законодательством, силами FATF или независимых наблюдателей вполне осуществимо.
Игнорирование этой проблемы чревато серьезными издержками. Почти ежедневное пополнение террористических списков Россией создает для западной финансовой системы лавинообразные сложности: тысячи людей автоматически попадают в базы данных KYC-провайдеров как «террористы» или «экстремисты», и эта информация мгновенно распространяется по банкам, делая невозможной нормальную финансовую жизнь для десятков тысяч человек.
Со временем такую же тактику могут взять на вооружение и другие политические режимы, в том числе среди западных стран. Потому что сложно найти другой настолько удобный инструмент для политических репрессий, который позволял бы властям оставаться в международном правовом поле и одновременно создавать огромные проблемы своим политическим противникам, в какой бы точке мира те ни находились.
Источник здесь
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.





Путин переплюнул Сталина с его репрессиями! Власть Путина агонизирует, пожирая достойных людей! Единственный выход — это смена Путинского режима, либо гражданская война в России! Путина и его шайку надо убирать от руля правления и как можно быстрее!