Как противостоять манипулятивной пропаганде России?
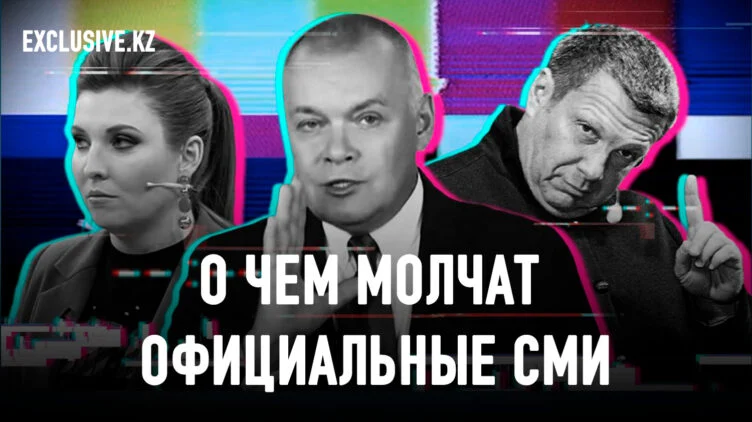
Российская агрессия в Украину стала закономерным итогом идейной эволюциивысшей российской власти, основанной на регенерации имперского мировоззрения.
В Казахстане с самого начала возможность возврата России к имперскому рессентименту воспринималась реалистично, что обусловило взвешенную и осторожную внешнюю политику в отношении северного соседа. Такое поведение было безальтернативно правильным, особенно в условиях начального этапа государственного строительства, экономической отсталости и сложного геополитического положения.
Политика Казахстана разительно отличалась от амбициозной и довольно наивной позиции Украины, которая с 90-х годов – с момента раздела Черноморского флота –старалась не уклоняться от конфронтации, рассчитывая, что роль моста между Россией и Западом позволит ей это делать безболезненно. Такая позиция выглядит довольно оправданной, когда речь идет о сугубо рациональных подходах и прагматичных интересах. Но она дала сбой, когда в дело вступил иррациональный фактор.
Кстати, силу этого фактора никак не может уразуметь мастер сделок Дональд Трамп, привыкший мерить все по коммерческой шкале.

Великодержавная идеология в России существовала с царских времен, не исчезла она и в советское время. Правда, она мимикрировала под давлением лозунгов пролетарского интернационализма, обосновалась главным образом в историко-литературной среде, сохраняясь в качестве сектантской научной школы. Но ее заслугой стало то, что каноническая история России (и Евразии в целом), вошедшая в учебники, сохранила довольно экзотические и малонаучные представления русофильства имперского периода. В годы перестройки она легализовалась под эгидой Общества «Память», а ее видные идейные вдохновители стали публичными фигурами.
В условиях плюрализма нового времени она постепенно становилась все более значимым элементом современной российской идеологии, искусно сочетая антизападные и антилиберальные взгляды с мессианскими идеями «русского мира». Кончилось тем, что апологетом этих националистических воззрений стало российскоеруководство, а вслед за ним – значительная часть населения.
Это был сознательный выбор, повлекший идейный переворот, и он был основан на аналитических выкладках. Как засвидетельствовал живущий в Лондоне политолог Владимир Пастухов, в недрах ФСБ даже был подготовлен аналитический труд, в комплиментарных тонах описавший идейно-политическую основу крайне правых националистических партий в Европе.
С этого момента неоимперские идеи стали «материальной силой» – то есть стали определять реальнуюполитику российского режима. Важно подчеркнуть, что их составной и неотъемлемой частью стал нигилизм в отношении и гражданских прав, и международного права. Политическое насилие и война стали рассматриваться как средства, которые могут обеспечить национальное развитие.
В тот момент, когда российская власть озиралась, желая определить, откуда начать «собирание земель русских», с евромайданом подставилась Украина, тем самым дав Казахстану возможность хоть немного собраться с силами. Но передышка не была использована, поскольку сформировавшийся в Казахстане правящий класс продолжил самозабвенно заниматься собственным преуспеванием, а не укреплением государства.
Война в Украине не только превратила геополитическую повестку в стержневой фактор суверенного развития, но также требует мобилизации и ускоренного решения многочисленных проблем, стоящих перед президентством Касым-ЖомартаТокаева.
И появились задачи, связанные с переосмыслением взаимодействия Казахстана с Россией. Первая – проблема союзничества. Это именно проблема, поскольку у рефлексирующих империй союзников не бывает – кроме армии и флота. Слабые союзники в лучшем случае временно воспринимаются как инструмент достижения целей, а по сути – как потенциальные жертвы, до которых пока не дошли руки. Официально российская дипломатия пытается в этом разубеждать, но в условиях господствующей идеологии генеральную линию скрыть невозможно, свидетельством чему многочисленные выпады против Казахстана, раздающиеся на самых разных уровнях.
Понятно, что Казахстану надлежит поддерживать ровные отношения с Россией, как с «Богом данным соседом», несмотря на их ныне токсичность, но при этом их купировать, ограничившись экономической сферой и исполняя обязательства формально на других направлениях. При этом такое дистанцирование должно быть заметным, особенно для общественного мнения, в том числе международного, как это мастерски получилось у президента К.Токаева на Санкт-Петербурском экономическом форуме.
Из этого вытекает, что необходима коррекция двустороннего взаимодействия в сфере массовой информации. Нужно оградить население Казахстана (особенно русскоязычное) от дурманящего воздействия российской пропаганды. Как показывает и опыт Германии 30-х годов прошлого века, и пример России начиная с 2014 года, высокий образовательный и культурный уровень населения не способен уберечь от вируса воинствующего имперского шовинизма. Благодаря специфическим приемам, использующим социально-психологические механизмы и этно-культурные коды, такого рода манипулятивная пропаганда очень быстро меняет ментальность людей.
Результат превзошел ожидания. Крымский консенсус 2014 года настолько успешно смел нарративы, породившие протесты на Болотной площади, и сцементировал действующую власть, что она без колебаний применила этот же инструмент в 2022 году. «Специальная военная операция» имеет в качестве достижений один неоспоримый результат –пожизненное правление Владимира Путина. И у его будущих преемников не будет никакого резона отказываться от имперской идеологии в обозримом будущем. Так что это всерьез и надолго.
Уже длительное время русскоязычное население Казахстана находится в жестком когнитивном диссонансе, причем в ситуации с неопределенным результатом. Этому следует противостоять идейно, и такое противоборство не нарушает дух и букву двусторонних договоров, не затрагивает базовых основ сотрудничества. Делать это нужно умно и профессионально, а для этого важно разработать комплексную программу работы и с общественным мнением, и с общественным сознанием, глубоко обоснованную теоретически (с привлечением экспертов в психологии, истории и других смежных науках) и реализуемую массированно по всем возможным информационным каналам. С учетом текущих тенденций эту работу предстоит делать долго и упорно.
Понимание такое, очевидно, есть, о чем свидетельствует поездка в Москву группы политологов во главе с Госсоветником Ерланом Кариным. Лучше вести диалог, даже если взгляды диаметрально противоположны.
При этом не следует спорить по тем позициям, где укоренившиеся стереотипы и основанные на вере предрассудки являются непрошибаемыми, ведь они выработаны еще два-три века назад и въелись в подкорку. Великодержавная идеология это конструкт прошлого и зовет в прошлое, борясь не с чем иным, как с самой Историей. Ей нужно противопоставить образы будущего, категории современного развития. Сделать это нетрудно, поскольку казахстанская и российская повестка и без того находятся в жестком диссонансе.
Можно привести длиннющий ряд антиномий: ограничение президентских полномочий – у нас, усиление властипервого лица – у них, поддержка плюрализма мнений – у нас, цензура, закрытие СМИ и уголовное преследование за неугодное мнение – у них, либеральная торговля и привлечение инвестиций – у нас, санкционная изоляция – у них, общественный контроль за правоохранительными органами – у нас, неограниченный произвол силовиков – у них, этническая толерантность и равноправие – у нас, обоснование национального превосходства – у них, инициативы по ядерному разоружению – у нас, бряцание ядерным оружием – у них. И так далее.
Вести дискуссию нужно без ненужного морализма, без собственного национал-патриотического угара, с глубоким пониманием реальных озабоченностей оппонента. Не надо ударяться в критику, увлекаться контрпропагандой – можно вести позитивистскую линию. Есть уверенность, что в возможной партнерской дискуссии наши аргументы будут не менее убедительными. Но дискуссии нет. Самая животрепещущая тема в нашей части мира, напрямую касающаяся Казахстана, в сферу интересов государственной информационной политики не входит.
В результате наиболее убедительный ответ хамской выходке Т.Кеосаяна дает лидер Народной партии Ермухамет Ертысбаев, а не руководители правящей партии «Аманат», интервью с зарубежными политологамии военными обозревателями публикуют не информационные каналы государства, а независимые блогеры, не получающие госинформзаказ. Это обращает на себя внимание, ведь именно государственные СМИ должны реагировать концептуально, формировать программные месседжи и задавать тренды.
Если государственные информационные ресурсы чураются профессионально вести дискуссию с российскими партнерами, то надо включать правовые механизмы. И Конституция, и закон о СМИ располагают нужными нормами о пропаганде войны, разжигании ненависти и т.п. Не нужно идти на крайние меры, вводя запрет на трансляцию российских телеканалов. Достаточно выдать предписания операторам вещания о недопущении противоправного контента, что позволит последним убирать из эфира наиболее одиозные передачи (Соловьева, Скабеевой, Куликова, Пушкова), заменив их другим (например, архивным) контентом от тех же правообладателей. Технически это несложно.
Такие меры непременно получат международный резонанс, причем силами самих российских пропагандистов, изъятых из нашего эфира, что будет полезно для восприятия Казахстана в мире. Во-вторых, это может побудить кремлевских кураторов СМИ пойти на контакт и изменить тональность в отношении Казахстана.
В условиях единого информационного пространства, значительной доли российского контента в медиапотреблении казахстанского населения, радикальности российских подходов в пропаганде чуждых для нас идейных концепций, нашей стране требуются меры как информационного противоборства (скорее дискуссионного, нежели полемического), так и правового реагирования. Отказ от них в угоду осторожной дипломатичности в итоге может обойтись несравненно дороже.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.

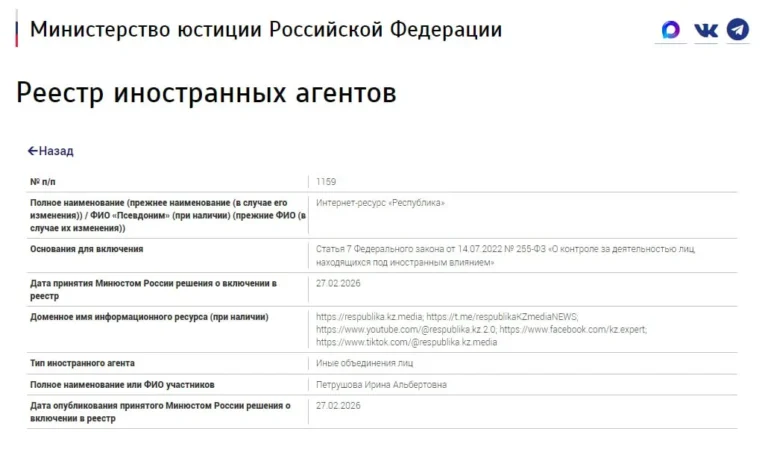

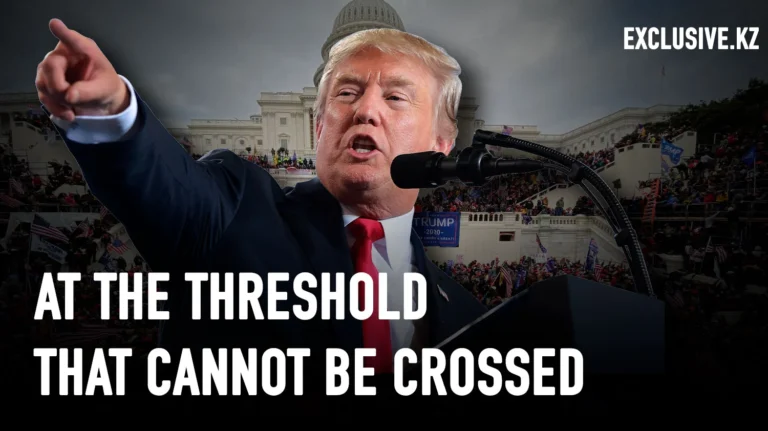

Проблема многих таких анти-колониальных нарративов в том, что они ведутся на колониальном понятийном языке, где фигурирует национальное этноцентрическое государство, миф о некой неизменной культуре / религии предков
Антимонии на самом деле выглядят как совпадения: оба переемники,переписали Конституции, обнулились,гнобят прессу и т.д.т.п.. Как поступают с оппозицией в Казахстане,спросите у Марата Ж.
Берик, ты сам идиот. Автор же прав на все 100%
К России надо относиться как минимум насторожено, это самый опасный сосед не только Казахстана, но и других стран!
идиот