Казахстан завершает путь от «мятежного» парламента к «цифровому»
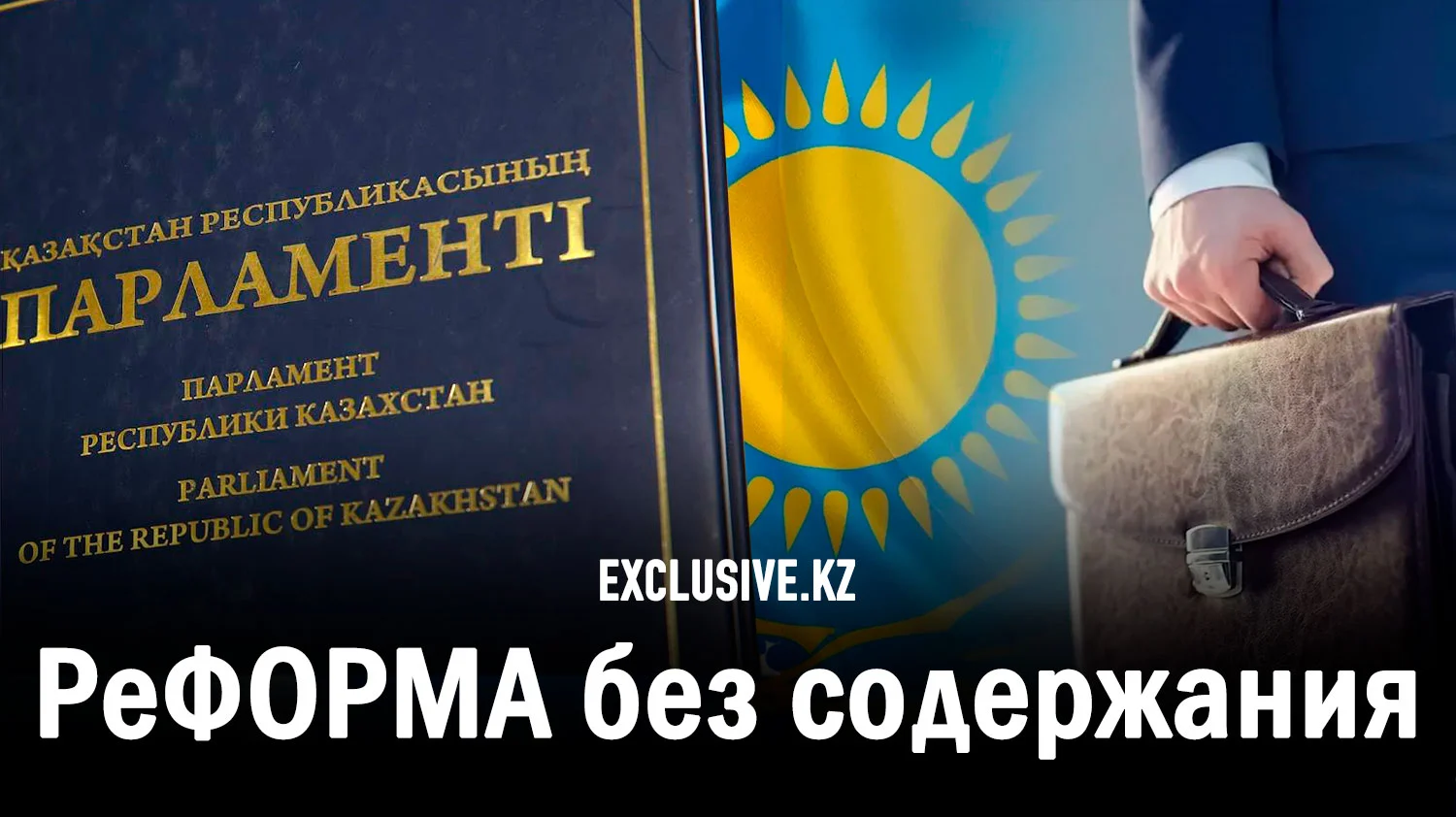
Президент во вторник, 14 октября, провёл первое заседание комиссии по парламентской реформе.
А за несколько дней до этого бывший помощник Руслана Берденова – бывшего мажилисмена и бывшего же вице-мэра Шымкента – «открыл америку»: оказывается, «мажилис – не место для дискуссий», а «Чаще всего законы инициирует правительство. Они создают план законопроектных работ. Парламент в этом участия не принимает. Этот план законопроектных работ правительство согласовывает, утверждает. И каждое министерство вносит свои планы и предложения. Если законопроект новый, то пишется концепция к нему. Потом проходит согласование среди госорганов. Потом все уходит в министерство юстиции, далее – в правительство. А правительство вносит документ в мажилис. Вот они хотят внести изменения, но этого в графике, в плане законопроектов нет. И министерство выходит с предложением на депутата. Давайте мы через вас, может, инициируем этот законопроект, как будто это вы все делаете, а министерство вместо депутата всю работу делает. А люди могут думать, что это такой умный депутат, сам все сделал. К примеру, закон об искусственном интеллекте – это создали госорганы. Закон по игорному бизнесу тоже. Это все министерство финансов».
Судя по реакции политизированной публики в соцсетях, она либо не знает всей правды о том, каков наш парламент сегодня и каковым хочет видеть его исполнительная власть во главе с президентом завтра, либо, напротив, знает и никаких иллюзий не строит.
В выступлении президента перед «ликвидаторами» сената прозвучали, на мой взгляд, три главных посыла. Посыл первый: переход к однопалатному парламенту – мера настолько назревшая и востребованная обществом, что осуществить ее власть вполне себе может без всякого референдума – ко всеобщему удовольствию. Но государство, провозгласившее себя «справедливым» и «слышащим», на это не пойдет. («Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан – это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат»). Посыл второй: под маркой «парламентской реформы» назарбаевская Конституция 1995 года будет не просто ревизована, а, по сути, упразднена – при этом, де-юре она сохранится, так что, ни новый конституционный референдум, ни Всеказахстанское конституционное собрание, делегированное «снизу», как некое «народное вече», не понадобится. («прежде всего, потребуется внести ряд поправок в Конституцию. Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции». Наконец, посыл третий: при всем соблюдении внешних демократических «приличий», при всем уважении и даже почтении Верховной власти к институту парламентаризма («для меня как для главы государства парламент является ключевым элементом политической системы страны», «парламент – это важнейшая структура, олицетворяющая нашу Независимость и государственность. Это непреложная истина, которая останется неизменной и в будущем») оптимизм по поводу намерений президента «плавно» перейти к парламентско-президентской или даже к президентско-парламентской модели государственного устройства явно несостоятелен. («Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией «Сильный президент – Влиятельный парламент – Подотчетное правительство». Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране»).

Если называть вещи своими именами, то Акорда в очередной раз продемонстрировала искусное владение политтехнологией, которую можно назвать «кардинально-номинальным реформированием» -громогласно декларируемыми переменами, ничего по существу не меняющими. Ведь в оставшемся без «верхнего этажа» однопалатном парламенте сохранится в неприкосновенности законотворческая кухня, описанная экс-помощником бывшего мажилисмена Берденова. Во всяком случае, никакая парламентская реформа не отменит главенства исполнительной власти над законодательной в плане собственно законотворчества. Проекты законодательных актов (некоторые с пометкой «срочно!» от президента) продолжит «печь» преимущественно правительство, поправки в них обладателей депутатских мандатов будут зависеть от благосклонности кабмина, а депутатские запросы – от вердикта парламентского начальства (председателя мажилиса и его замов). Более того, поскольку новый парламент будет избираться исключительно по партспискам, постольку за депутатами будет еще и строгий партийный пригляд. Не удивлюсь, если в будущем депкорпусе любое выступление «народного избранника» в зале заседаний и даже за его пределами станет невозможным без «одобрямса» руководителя его партийной фракции. Такой парламент, конечно, можно называть «влиятельным», но больше в смысле внешнего влияния на него…
Третья часть токаевской формулы власти – про «подотчетность правительства» – при таком раскладе выглядит не менее двусмысленно. Начиная с неясности на предмет того, кому именно оно подотчетно: сильному президенту или «влиятельному» парламенту?
Впрочем, судя по внутренней логике президентского выступления перед «комиссионерами», власть давно уже ответила на этот вопрос – прежде всего, самой себе. «В ряде стран уже апробируются элементы «электронного (или цифрового) парламента», призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса. В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже осознанно делаем большой упор на это направление. Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov»– сказал президент.
То есть, Касым-Жомарт Кемелевич видит будущий законодательно-представительный орган государственной власти своего рода «цифровым приложением» (пусть даже многофункциональным и всячески полезным для потребителей его услуг) к президентско-правительственной вертикали власти.
Что ж, вполне достойное завершение большого эволюционного пути, который отечественный парламентаризм прошел со времен «мятежного» асанбаевско-абдильдинского Верховного совета начала 90-х. Если дальнейшая работа парламентских реформаторов пойдет в соответствии с предложенным президентом алгоритмом (а от подобных предложений в наших реалиях отказаться невозможно), то действительно непонятно: зачем тянуть с этим до 2027 года? Тем более, что сам Касым-Жомарт Кемелевич неоднократно – и справедливо! – указывал: у страны нет ни времени, ни средств «на раскачку».
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.



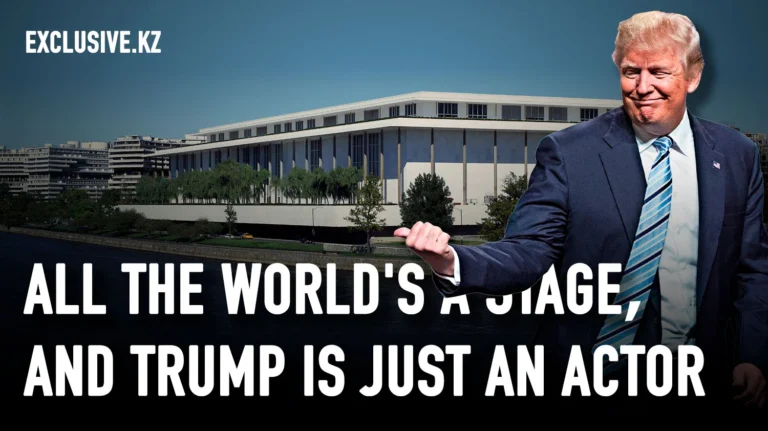

Ошибка. Наверное 14 октября.
«Президент во вторник, 14 ноября провел первое заседание комиссии по парламентской реформе.»