Коррупция как инструмент уничтожения государственности

Паводки в Казахстане бывают каждый год, но в этом году они пришли масштабно, нанеся большой ущерб: дома жителей 8 областей Казахстана разрушены, а домашний скот во многих хозяйствах утонул. Так что или кто в этом виноват – климатические условия или человеческий фактор?
Не ждали!
«Казгидромет», как известно, еще осенью прошлого года предупредил службы, обязанные заранее реагировать на особо опасные метереологические явления, о предстоящих масштабных паводках. Но их фактически 100-процентно точные прогнозы почему-то были проигнорированы властями.
– То, что произошло – разрушены тысячи домов, утонул домашний скот, говорит об отсутствии взаимодействия между службами и ведомствами, – считает Александр Монастыренко, руководитель проектов ТОО «Группа компаний «SKYMAX TECHNOLOGIES». – Национальная служба «Казгидромет» свою историческую миссию добросовестно выполнила: она еще в ноябре-декабре прошлого года предупреждала всех, что весной в Казахстане ожидается большая вода. А мы неоднократно проводили конференции в режиме и онлайн, и офлайн на эту тему, где присутствовали представители всех заинтересованных ведомств. Но взаимодействия между теми же акиматами и МЧС, который занимается устранением последствий (не более того), – не получилось.

Климатолог, директор центра гидрометереологического мониторинга Астаны в 1997-2014 годах Людмила Чутонова подтвердила, что все признаки предстоящего наводнения имелись еще осенью прошлого года.
– Наводнение можно было предусмотреть, чтобы смягчить его последствия, – сказала она. – Паводки – это ведь не что иное, как резкое повышение уровня воды за кратковременный период, а катастрофическое половодье – это уже наводнение. Но у меня такое впечатление, что в этом году к ним вообще никто не готовился.
По ее словам, обычно при составлении гидрологического прогноза на период паводка, всегда учитываются три главных факта.
– Первый – осеннее увлажнение почвогрунтов, а у нас тогда были обильные дожди, – продолжает климатолог. – Затем была низкая температура, после чего впитывать поступающую воду почва уже не могла. Второй – в начале зимы выпало большое количество твердых осадков (снега). В декабре, например, три месячных нормы в одной только Астане. 64 миллиметра – это небывалый случай. Поэтому и следовало ожидать, что влагозапасы в снежном покрове были очень большие. Ну и третий фактор – так называемый коэффициент дружности весны, когда весь поверхностный сток определяется (или высчитывается) синоптиками именно по погодным условиям. Служба «Казгидромет» попала прямо в точку, проинформировав всех в декабре прошлого года, что год будет уникальным в плане максимального снегонакопления и снеготаяния. 1 февраля эта служба выпустила справку-консультацию, через месяц – вторую. В них она указала, что 8 областей Казахстана находятся в зоне высокого риска – ожидается наводнение. Но никто, в том числе и специалисты, отвечающие за реагирование на стихийные ЧС, не обратили на это внимания. Между тем, первый звоночек прозвенел уже где-то в середине марта: в соцсетях появилось видео о затоплении аэропорта в Актобе и некоторых районов областного центра. В это время надо было хотя бы освобождать водохранилища от запасов воды, но никто этого не сделал. Первым триггером стало то, что из Челябинской области России, боковой приточности Тобола была сброшена вода, но русла реки не были готовы к ее приему, она начала растекаться по льду в поймы реки.
Кроме этих методов прогнозирования, в Казахстане с 90-х годов использовались также математические модели. Как рассказал ее автор, математик Нурлан Мунбаев, в 1991-1992 годах в Атырау было создано западное отделение НАН РК.
– Его сотрудникам, в число которых входил и я, было поручено создать математическую климатическую модель для компьютерного прогнозирования стихийных бедствии именно в Каспийском регионе, – вспоминает он. – С задачей мы справились. Сделанный нами математический прогноз экономико-экологического направления оправдал себя в смысле точности: 27 тысяч домов ушли под воду, но заблаговременно предупрежденные жители Атырауской и Мангистауской областей успели эвакуироваться. Перед этим я сообщал, что вероятность подъема уровня воды в Каспийском море колеблется в районе шести метров (в этом году он, напомню, составил девять метров). Сейчас мы эту модель модернизировали, она теперь работает на искусственном интеллекте и применима по всему масштабу казахстанских вод и рек.
Причины паводков в Казахстане, по словам профессора Мунбаева, могут быть комплексными. Кроме общемировых климатических изменений, влияющих на частоту и интенсивность паводков, а также состояния гидротехнических сооружений (изношенность плотин и дамб), неэффективного управление водными ресурсами, выявилась еще одна проблема – застройка пойменных территории.
– После того, как «Казгидромет» в ноябре-декабре дал точный прогноз, акиматы этих областей должны были сработать в аварийном варианте, но они этого не сделали, хотя в протоколах, нормах и правилах прописано, что глава региона должен нести ответственность за любое ЧП – и за паводки, и за лесные пожары, – говорит профессор. – Реакция на паводки центральных органов власти и местных исполнительных показала, что между ними нет четкой связи и разделения обязанностей.
Яхта в обмен на наводнение
Заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциации экологических организаций» Казахстана Булат Касымов рассказывает, что они еще в 2020 году рассматривали обращение группы общественников из Актобе, связанное с расширением русел рек после паводка в 2017 году, когда пострадали несколько сотен жилых домов. Выяснилось, что в 2010 году там должно было пройти многофакторное обследование гидротехнических сооружений, но его не было, хотя деньги на это были выделены.
– В Актобе, в частности, эксплуатирующей организацией были нарушены регламенты по спуску воды на водохранилищах, – рассказывает он. – Она боялась делать какие-то движения, потому что устаревшие шлюзы имели трещины. Кроме того, мы столкнулись с фактами высоких коррупционных рисков. Тендер на многофакторное исследование гидросооружении в 2010 году выиграла непонятная компания, не имеющая к ним никакого отношения. Купив на полученные от государства деньги яхту для личных нужд, она стала тянуть время. Когда до выполнения государственного заказа оставался месяц, компания, наконец, обратилась к услугам специалистов. Итог – было возбуждено уголовное дело. В 2018-19 году наши специалисты забраковали после проведенного ими анализа водные проекты на 30 млрд тенге, хотя те уже прошли государственную экспертизу. Когда на защите одного из проектов (он касался, правда, очистных сооружении) технологи и экологи заявили, что данная технология работать не будет, чиновник признался, что им «позарез нужно освоить миллиард тенге». С высокими коррупционными рисками мы столкнулись на всех этапах реализации этого проекта, начиная от инициирования до разработки технического задания сотрудниками акимата, не обладающими должными компетенциями. Тендер выиграла проектная организация, у которой нет ни технологов, ни профессиональных гидротехников и гидрологов. Бумажки, якобы подтверждающие их квалификацию, ни о чем не говорят. Мы все знаем, что сегодня любой человек может купить на рынке компанию с лицензией и «построить», например, дамбу.
Сейчас президент Токаев заговорил о возвращении специалистов в страну. В свете этого решения восстанавливают когда-то крупнейший в Союзе отраслевой вуз – Джамбульский гидро-мелиоративный институт. НО если будет отсутствовать высокое качество приемки работ на всех стадиях реализации проекта со стороны госэкспертизы, то бесполезно обучать специалистов, потому что их заработная плата будет низкой из-за невостребованности на рынке труда, а если нет спроса, то не будет неотвратимости наказания за бездарно реализованные проекты.
– Наконец-то обратили внимание на водную проблему и всерьез задумались над тем, что водой надо управлять умеючи, – отметил организатор состоявшейся в пресс-клубе «Астана» дискуссии инженер-гидроэнергетик. экономист Мейрам Кажыкен. – Тем более. что Казахстан находится в степной зоне, где вода на вес золота. Нам надо научиться накапливать ее по крупицам. Для этого нужны инженеры-гидротехники широкого профиля. Я сам когда-то заканчивал Джамбульский гидро-мелиоративный институт. – Наше обучение начиналось с изучения почвы и оснований фундаментов. Нас учили по циклам высчитывать маловодные и многоводные годы, мы знали, что дамба – это бомба. Если за ней накопилось большое количество воды, то ее прорвет, а дальше – большая беда. Но, к сожалению, вуз был продан и перепрофилирован. Если он вновь начнет готовить инженеров– гидротехников, то на это уйдут долгие годы, а специалисты нужны сейчас.
– Климат действительно цикличен, – говорит климатолог Людмила Чутонова. – В зависимости от количества осадков и изменении температуры приходит либо большая вода, либо малая, поэтому процентов на 80 ситуацию всегда можно предусмотреть. Но наводнения не всегда бывают цикличными. Посмотрим это на примере Атбасара, где было наводнение в 2017 году. То же самое повторяется через 7 лет, в 2024-м. Дамба стоит на том же самом месте, вода пришла с поймы, а не с русла реки, поэтому все дачи, которые были построены там, затоплены. Дамба – это, действительно, палка о двух концах. Если учесть, что их начали строить наспех из подручного намокающего материала, то, естественно, образовался прорыв и хлынувшая вода затопила Атбасар. Когда «Казгидромет» дал штормовое предупреждение о том, что уровень воды достиг в городе критической отметки, с верховьев Жабая сбросило (!) воду частное водохранилище. Это говорит о том, что никакого взаимодействия между частниками, государственными и исполнительными органами нет.
При слиянии рек Колутон и Жабай в Ишим произошло то же самое: когда прорвало дамбу, то создался подпор, который не позволил воде уйти из города, хотя Комитет водных ресурсов еще в 2015 году разработал правила эксплуатации водохозяйственных сооружений. Кстати, частники тоже должны смотреть за своими плотинами и дамбами, но никто ничего не выполняет и никто ничего не проверяет. И тем не менее, водное управление лихо согласовывает и подписывает документы на выделение земельных участков в пойменной зоне реки, не думая о том, чем это может закончиться.
Что делать?
Булат Касымов уверен, что без постоянно действующего системного общественного контроля с привлечением отраслевых специалистов водный вопрос в Казахстане не решится.
Оставить чиновников один на один – это убийственно, – считает он. – Поэтому необходимо создать при Национальном курултае независимую комиссию с участием отраслевых специалистов – гидротехников, гидрологов, экологов и технологов, независимых общественных деятелей, СМИ, депутатов маслихатов и мажилисов. Мы должны рассмотреть все причины случившегося катаклизма, разобраться в деталях и понять, каков процент природной стихии, а где – безалаберности и отсутствия каких-либо действий. Все материалы, заключения и проекты этой независимой комиссии должны быть выставлены на сайте, чтобы пройти общественные слушания и обсуждения. Если работа будет идти прозрачно, мы сможем повлиять на ситуацию. У нас есть все механизмы, позволяющие каждому гражданину на всех этапах реализации государственных проектов и программ осуществлять общественный контроль и участие.
В процессе работы этой комиссии, я думаю, будут установлены те государственные органы и конкретные люди при должностях, которые проявили бездействие во время стихийного бедствия.
Сертифицированный эксперт Кирилл Павлов утверждает, например, что заблаговременно предупреждал акиматы о наводнений, однако был проигнорирован. В Уголовном кодексе РК есть статья 370 – «Бездействие». А коль так, то нужно разобраться, насколько были осведомлены ответственные государственные службы о предстоящих катаклизмах и какие конкретные меры они приняли.
Дело в том, что, к сожалению, нерадивым чиновникам такие катаклизмы в последнее время стали очень выгодны. С учетом колоссальных потерь будет введен некий спецрежим и тендеры будут раздаваться налево и направо. И, конечно же, будет распаковываться Национальный фонд.
Математик Нурлан Мунбаев считает, что первым шагом для решения водного вопроса в Казахстане должно стать укрепление и модернизации гидротехнических сооружении.
– Но коррупция мешает этому. Такая ситуация не только в упомянутом выше Актобе, но и по всему Казахстану, где есть обширные водные ресурсы. Второе – улучшение системы прогнозирования, то есть усиление геологических постов и метеостанции.
Третье – запретить строительство на пойменных территориях, где возможно затопление. Последние 30 лет самые лакомые земельные в каждом регионе, особенно там, где произошли затопления, отдавались налево и направо, несмотря на то, что экологическое законодательство запрещает строительство в таких опасных зонах.
Кроме координации действий между различными ведомствами и внедрения интегрированного управления водными бассейнами, необходимо развитие международного сотрудничества по всему периметру трансграничных рек – Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан и Узбекистан. То есть элемент оповещения должен быть не только внутри страны. Ситуация, с которой мы столкнулись, произошла ведь в трансграничной территории: большая вода пришла в Казахстан из РФ.
Александр Монастыренко предлагает автоматизировать прогнозирование наводнений: – Необходимо создать единый ситуационный центр на базе «Казгидромета», где имеются компетентные специалисты, которые могут выдавать точные прогнозы, анализировать ситуацию и контролировать процесс. Кроме этого центра, необходимо везде установить автоматизированные рабочие места – в акиматах, министерстве экологии и водных ресурсов, где информация будет идти через веб-браузер. Сейчас измерения на гидропостах идут мануальные. То есть гидролог в нормальный период два раза в сутки измеряет уровень воды, после случившегося катаклизма каждые 4 часа, но за это время может случиться всякое. А если установить нормальный функционирующий гидрологический пост с комплектом датчиков для снятия и передачи данных в центр сбора каждые 10 секунд, то прогнозы с учетом полных данных будут более точными.
Все украдено!
Игорь Липсиц, доктор экономических наук (Россия) прогнозирует рост числа техногенных аварии.
– Самое важное в экономике – понимать, что будет происходить дальше, – заявил экономист. – О том, что будет тренд на рост числа техногенных аварии, я говорил еще два года назад, но народ веселился, считая, что в советские времена все было построено с огромным запасом прочности. Но ведь это было довольно давно – больше 30 лет назад, а многим гидросооружениям по 50 и более лет, так что запас прочности кончается. Поэтому вопрос в другом – может возникнуть растущая тенденция огромного числа техногенных аварий. То, что мы увидели этой зимой, была вовсе не локальная, а общероссийская, общенациональная беда. Масса людей оказались в застывших домах. Они грелись у костров и записывали видеобращение к президенту: приди, царь-батюшка, разморозь нам батареи
А потом началась весна. Авария в Орске (город в Оренбургской области. – Ред.) для меня знаковая. Я смотрел кадры с рухнувшей там дамбой. Не видно ни бетонного каркаса, ни больших скальных глыб. Одна голая земля. Есть запись выступления эксперта в суде по поводу этой дамбы. Он написал конкретное заключение, что она построена с нарушением всех норм возведения гидро-технических сооруждений. Украли все, что возможно! Его заключение суд не принял, запросил другое, которое было прекрасным, замечательным, волшебным. А между тем дамбе всего 10 лет. Это значит, что кроме огромного износа старых советских сооружении есть еще халтурно возведенные во времена Путина новые, когда масштаб коррупции стал безумным. Я не знаю, протии чего боролся Навальный, но это то, о чем он писал: коррупция становится не просто фактором того, когда кто-то кому-то занес деньги в карман, а фактором смерти российского народа, потому что это будет порождать техногенные аварии даже на относительно новых, но возведенных с максимальным масштабом отката, воровства объектах. Это страшно, в это не хочется верить, но это будет происходить.



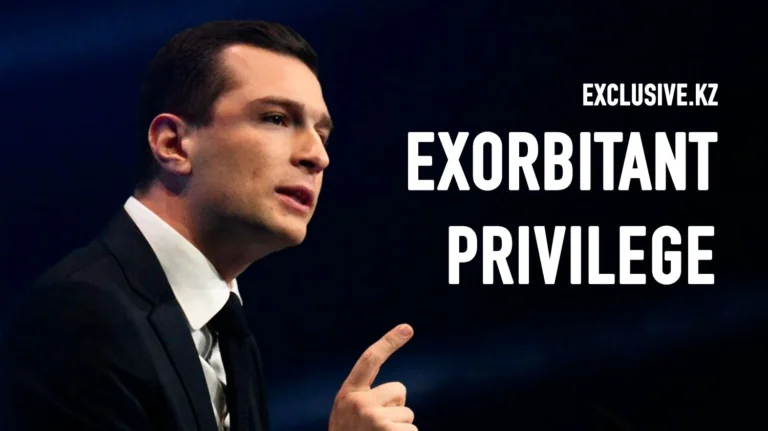

Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.