Нефтяные компании должны ответить за экологическую катастрофу на Каспии

Экологическая ситуация на Каспийском море продолжает ухудшаться. Экологи давно об это говорят, но систематических шагов для решения проблемы до сих пор не было сделано ни со стороны власти, ни со стороны гражданского общества. Однако недавно несколько экспертов и общественных деятелей объявили о создании движения Save the Caspian Sea, которое намерено бороться с первопричинами кризиса на Каспийском море. О том, как они планируют это делать, Exclusive.kz поговорил с экоактивистом и основателем движения Вадимом Ни.
– Какие факты говорят о том, что экологическая ситуация в Каспийском море стремительно ухудшается?
– Самая острая проблема – это обмеление Каспия. За уровнем моря ведутся наблюдения уже больше столетия. В разные периоды времени он может повышаться и снижаться, но уже давно наблюдается тенденция к снижению. Минимальный уровень Каспия был в 1977 году – минус 29 метров. Но сейчас он еще ниже – около минус 29,3 метров, по данным Казгидромета за январь 2025 года. То есть мы опустились ниже ранее рекордно низкого уровня.
В конце прошлого года я лично проехался по дельте Жаика (Урала) в Атырау до моря. Действительно, несмотря на то что в прошлом году из-за паводков в Каспий поступил кубокилометр воды (по сообщениям СМИ, это был рекордный уровень притока), большие отмели остались. То есть масштабные паводки не наполнили Каспий.

Часть исследователей считают, что снижение уровня воды Каспия связано с циклическими изменениями. Но те, кто понимают сегодняшние реалии изменения климата, на это не надеются.
Основные притоки в Каспийское море идут из России – из Волги (80-85% притока) и Урала. Так как паводковая вода, идущая с Урала, не повысила уровень Каспия, то из Волги приток в прошлом году в лучшем случае не увеличился. Из-за изменения климата он и не сможет увеличиться. Во-первых, и-за роста температуры увеличивается испарение воды. Во-вторых, Волга пополняется в основном за счет дождевой воды, но территория выпадения дождей сейчас смещается. В итоге та вода, которая раньше шла на юг в Каспийское море, идет в Северный Ледовитый океан. Об этом есть вполне авторитетные публикации российских ученых.
Кроме обмеления, остро стоит проблема сокращения популяций животных за последние десятилетия. Уже давно происходит снижение численности осетровых рыб. Этот промысел мы уже фактически потеряли, хотя на Каспийское море раньше приходилось около 90% вылова осетровых в целом по миру. А сейчас на вылов осетровых каждый год вводится мораторий.
Мальков в море запускают, но пока мы не видим результатов таких попыток искусственного восстановления популяции, потому что осетровые долго растут, иногда десятилетиями. Промысел рыб в целом сейчас смещается от Атырау к Актау, и там совсем другие виды рыб ловят, менее ценные, камбалу и кильку, например.
Также очень сильно сократилась популяция тюленей. Если в начале 20 века их насчитывалось около 1 миллиона особей, то сейчас их всего около 70 тысяч. Это, конечно, связано и с изменением климата, и с загрязнением моря, и с другими факторами.
– Кроме потери рыбного промысла, какие еще последствия обмеления и загрязнение Каспия непосредственно касаются людей?
– Потеря рыбного промысла происходит в Атырау. А в Актау изменения на Каспии угрожают туристической отрасли и влияют на доступ к питьевой воде.
С одной стороны, за последние годы в Актау стало теплее, увеличился период времени, когда море теплое и в нем можно купаться. Но, с другой стороны, воды становится меньше, море мельчает. Береговая линия смещается все дальше, в результате туристические базы и отели, которые изначально строились на берегу, сталкиваются с трудностями — вода может отходить на 10-20 километров.
Смещение береговой линии влияет и на доступ к питьевой воде. В Актау питьевую воду получают, опресняя морскую воду, которую выкачивают из Каспия. А если береговая линия уходит дальше, то и насосные станции нужно переносить. Кроме того, загрязнение моря, очевидно, сильно ухудшает качество питьевой воды.
– Каковы причины этих проблем? Что привело к загрязнению и обмелению?
– Если говорить о загрязнении, то с нашей стороны оно началось в 1990-х, с развитием нефтедобычи, когда начали разрабатывать Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Загрязнение от нефтедобычи идет сильное, и оно, конечно, сильно влияет на флору и фауну. Конечно, сокращение популяции осетровых во многом связано с браконьерством, но в случае тюлений наибольший вклад вносят нефтяные компании. Разумеется, они это отрицают. В отчетах, когда они проводят обсуждения о возможных последствиях своей деятельности для экологии, прямо пишут, что было, допустим, шесть групп флоры и фауны, а осталась одна. Но вывод неизменный — никакого воздействия в зоне исследования они не оказывают. Кто угодно, только не мы.
В 90-е были заключены соглашения о разделе продукции, которые (это будет звучать обидно) можно сравнить с тем, как колонизаторы «обменивались» с коренными народами бусами на золото. Согласно этим соглашениям, если инспекционные органы подают на компанию в суд за нарушение экологических норм, ответственность за это будет нести казахстанская сторона. Поэтому, даже когда министерство экологии выставляло штрафы ТШО на миллиарды тенге, их оплата все равно шла из нашего кармана.
Другая проблема этих соглашений – полная закрытость. Я подал индивидуальное обращение в министерство энергетики с требованием предоставить к ним доступ, поскольку их содержание – общественно значимый вопрос. Но ответ скорее всего будет отрицательным, потому что государственные органы сами согласись с условием конфиденциальности, предложенным нефтяными компаниями. И вряд ли государство сейчас возьмет на себя ответственность раскрыть их. Но мы в любом случае будем обжаловать отказ в суде и обращаться в международные инстанции.
Мое требование основывается на положениях международного экологического права, поэтому потенциально его могут удовлетворить только в части экологической информации. Но кроме раздела об охране окружающей среды, в соглашениях есть и другие разделы, и все их важно раскрыть.
– Есть ли какая-то независимая оценка вклада нефтяных компаний в загрязнение Каспия?
– У нас, конечно, очень слабые возможности для независимого мониторинга. Сами нефтяные компании нанимают отдельные компании, которые проводят экологический мониторинг. Но эта информация закрыта от общественности. Мы получаем информацию от них только на стадии прохождения проектом оценки воздействия на окружающую среду. Например, при расширении месторождений. Но это не касается изменения ситуации на уже действующих месторождениях.
Конечно, нам нужно развивать свою систему мониторинга на Каспии. Сейчас мы ориентируемся на обрывочную информацию, которая поступает из разных источников. Например, о штрафах за нанесенный экологический вред или несоблюдение экологический норм. Также многое можно понять, сравнивая деятельность нефтяных компаний, которые работают у нас, с деятельностью других нефтяных компаний. Они априори не могут быть экологичными.
Госконтроль тоже ограничен. Невмешательство государства в деятельность компаний оправдывается возникновением коррупционных рисков. Но ведь речь идет не о компаниях среднего размера. Некоторые из них более влиятельны, чем министерства. Поэтому их деятельность все-таки должна контролироваться со стороны государства.
– Если перейти к факторам, влияющим на обмеление. В Мангистау планируют реализовать масштабный проект по производству зеленого водорода. Для его производства будет выкачиваться вода из Каспия. Насколько это может повлиять на объем воды в море?
– Это проект из Германии. Он предполагает, что вода берется из Каспия для гидролиза (химическая реакция разложения молекулы воды, – Exclusive), а энергию для гидролиза будут получать от возобновляемых источников. Потом полученный в результате гидролиза водород перерабатывают в аммиак, перевозят в Европу и там сжигают.
За период, допустим, 20 лет работы этого производства кубокилометр воды будет точно выкачан. Это, конечно, не много относительно всего объема Каспийского моря, но с учетом других факторов, это тоже будет вносить некоторый вклад.
– На Каспии работают опреснительные заводы, а их мощности все время планируют увеличить. Вносят ли они вклад в обмеление моря?
– Они не особенно влияют на объем Каспия, потому что воду, которую забирают, потом сбрасывают обратно в ходе цикла работы предприятия. Правда, вода эта уже загрязненная, что бы ни говорили сами производители. К тому же работа опреснительных заводов все-таки оправдана насущными потребностям населения в питьевой воде, и просто избавиться от них нельзя.
Основные факторы обмеления – это изменение климата, и, как следствие, сокращения стока воды по рекам.
– На это разве можно как-то повлиять, учитывая, что изменение климата – это глобальный процесс?
– Во-первых, надо садиться за стол переговоров всем прикаспийским государствам. Сегодня этот вопрос поднимают Казахстан и Азербайджан, то есть страны, которые больше всего страдают от обмеления Каспия. Для Азербайджана Каспийское море вообще имеет стратегическое значение. Заинтересованность выражает и российская сторона, но для них потери, конечно, не такие значительные, поэтому они не так активны.
Разумеется, мы не можем как-то технически увеличить сток воды по рекам из России. Но мы можем договориться хотя бы о том, чтобы страны не удерживали большие объемы воды в водохранилищах. Сейчас еще возникает тенденция построить побольше водохранилищ, чтобы удерживать воду, которая со временем из-за изменения климата будет все более дефицитной. Это тоже нужно регулировать.
Второй момент касается загрязнения. Поскольку деятельность нефтяных компаний непрозрачна, они могу просто свалить ответственность на грязную воду, идущую по Волге и Уралу. Этот фактор действительно существует, и по нему тоже нужно договариваться.
В-третьих, нам нужно адаптироваться к изменению климата. Если мы понимаем, что уровень моря будет постепенно снижаться, то нужно выработать адаптационную политику. В этом должны помогать ученые, которые могут исследовать проблему и предложить оптимальные меры.
Но проблема в том, что у нас таких ученых фактически нет, а в Азербайджане их очень мало. С советских времен работает научная база в Астрахани, поэтому важно сотрудничество с российской стороной. То есть нужно объединяться.
Сейчас в Казахстане создается научно-исследовательский институт по проблемам Каспия. Но пока что за два года только директора успели назначить. Процесс создания научного института не простой, он может занять десятилетия. Для него нужны кадры, которых сейчас практически нет.
– Что конкретно ваше движение планирует делать, чтобы добиться позитивных изменений?
– Сейчас основной упор идет на информационную кампанию, привлечение внимания к теме. Поднять шум в нашей и зарубежной прессе нам пока удается.
Второе направление – это работа с нефтяными компаниями, в том числе через юридические механизмы. Мы хотим добиться того, чтобы обсуждение продления контрактов и заключения новых контрактов на расширение месторождений было открытым и включало разработку более строгих экологических требований, предполагающих возмещение ущерба и обеспечение возможности независимого мониторинга.
Добиться прекращение добычи нефти на Каспии или ограничения коротким периодом, например на 10 лет, сейчас вряд ли возможно. Но вполне возможно, чтобы деньги от добычи шли на сохранение природы Каспия, помощь местному сообществу и вложение в местную экологическую и социальную инфраструктуру.
Третье направление связано с организацией трансграничного сотрудничества прикаспийских государств. Сейчас его, по сути, нет. Есть двусторонние контакты, но они плохо помогают решать проблему, которая касается нескольких стран. К тому же в двусторонних переговорах более слабому государству сложно как-то повлиять на более сильное, поэтому последнее остается в выигрыше. Но если в переговоры включаются несколько стран, такой сценарий становиться уже более реальным.
Уже 20 лет действует Тегеранская конвенция (Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, – Exclusive), которая предписывает проводить регулярные конференции по проблемам Каспийского моря. Но эта конвенция не работает, а конференции слабо организованы и ни на что не влияют. Никаких конкретных предписаний она не предполагает. Никто даже не знает, что мы должны по этой конвенции делать.
Есть пример Орхусской конвенции, которая налагает на страну обязанности по обеспечению гражданам доступа к информации и правосудию, а также участия в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды. Опираясь на эту конвенцию, мы можем потребовать государство соблюдать определенные правила. Но в случае Тегеранской конвенции такой механизм действий неприменим.
То есть сейчас не существует пятисторонней платформы для обсуждения и решения экологических проблем Каспия, каких-то регулирующих документов. Поэтому предстоит еще много работы.

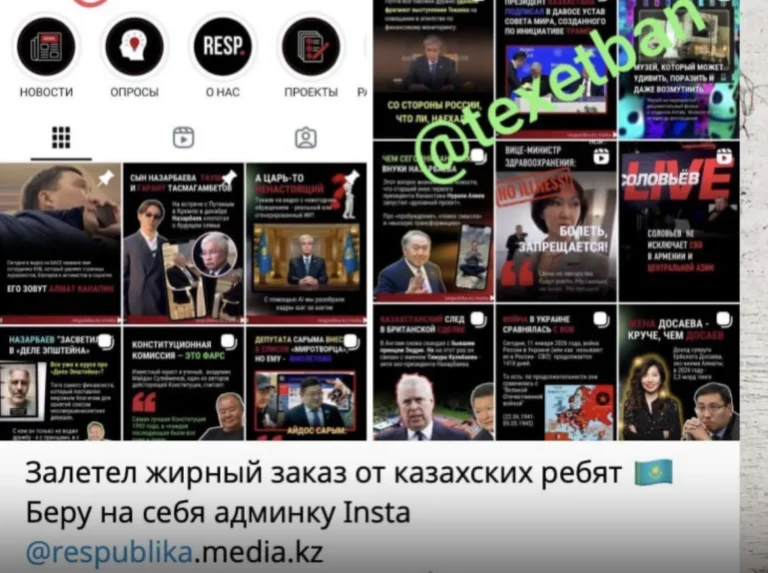



Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.