Отношение к исламу раскалывает казахстанское общество
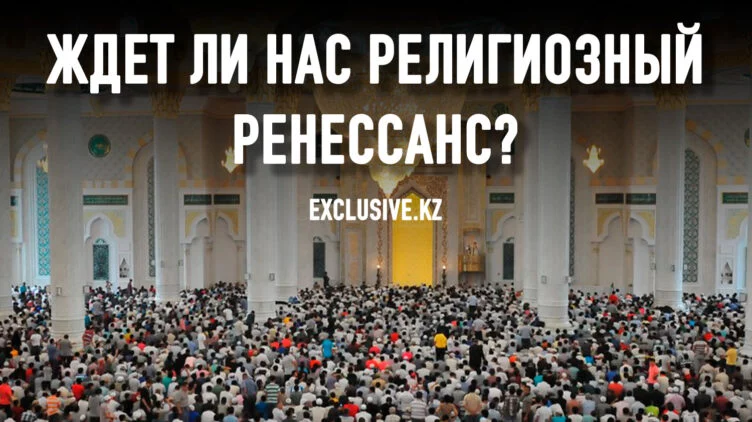
На последнем национальном Курултае президент поднял тему религии в нашем обществе. По его мнению, «Важнейшая миссия религии – консолидация нации». Позже он продолжил этот тезис: «Главная цель – строительство Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех и каждого… Ислам – неотъемлемая часть мировоззрения и образа жизни казахского народа. Эта религия глубоко переплетена с обычаями и традициями наших предков. Эти две важнейшие ценности – вера и традиции – являются незыблемой основой нашей национальной идентичности». Но идеи светскости государства и соблюдения гражданских прав по-прежнему противопоставляются. Как снять напряженность вокруг этой чувствительной темы? Как успокоить тех, кого пугают масштабы и проявления религиозного Ренессанса? Как построить общество, где гармонично переплетаются интересы всех – религиозных граждан разных вер, агностиков, атеистов? Ответить на эти вопросы согласился директор Института геополитических исследований, профессор Асылбек Избаиров.
– Асылбек Каримович, почему у нас возникают эксцессы вокруг религии?
– На мой взгляд, на это вопрос ответил сам Глава государства в своем выступлении на ифтаре в Бурабае. Он сказал буквально следующее: «…участились случаи, когда необдуманные действия отдельных невежественных людей и провокаторов негативно влияют на восприятие ислама в мире». Понятно, что он говорил про мир в целом, но все это также справедливо и для Казахстана. Мы видим, что с обеих сторон – и от представителей религиозной части общества, и со стороны, условно, светских граждан – периодически вбрасываются взаимные провокационные заявления. К счастью, в основном эта нетерпимость проявляется в интернете. В реальной жизни таких конфликтов гораздо меньше.
Тем не менее, проблема восприятия религии в нашем обществе достаточно остра и ее истоки носят концептуальный характер. Точнее, в нашем обществе есть не совсем точное понимание ключевых понятий, связанных как с положением религии, так и ролью государства и общества.

Речь идет о базовых понятиях – государство, общество, светскость и секуляризм. Начну, пожалуй, с примера. Мечети в Алматы по пятницам переполняются, люди читают намаз вокруг, порой заходя даже на тротуар и проезжую часть. Азан звучит из динамиков мечети. Посторонние люди возмущаются и говорят: «У нас светское государство!», подразумевая неприемлемость такого явления. Этот же аргумент приводят сторонники запретов ношения религиозной одежды в общественных местах. Ошибка в том, что они, по сути, не отличают понятия «общество» и «государство». Между тем, общество – это совокупность всех граждан Казахстана, а государство – это политический механизм, форма устройства общества – институт, инструмент управления обществом на определенной суверенной территории. И если государство у нас действительно светское (то есть отделенное от религии), то общество – всех его членов в совокупности – это ни к чему не обязывает. Об этом говорит наша Конституция, гарантирующая свободу совести и вероисповедания. Государство и общество – это связанные понятия, но далеко не синонимы. Проведу аналогию – у нас демократическое государство, но все его граждане не обязаны быть либералами и демократами по своим воззрениям.
Второе заблуждение со стороны многих наших граждан и, к сожалению, разделяемое некоторыми членами депутатами, заключается в том, что они ставят знак равенства между светскостью и секуляризмом.
– А разве это не одно и то же?
– Действительно, может показаться, что это синонимы. В английском языке, например, это просто одно слово. Но не в нашем случае. Как минимум, в русском языке это давно уже не так. Различия между светскостью и секуляризмом в том, что светскость – это принцип организации работы государства. В соответствии с ним государство нейтрально к любой религии, оно не поддерживает, но и не препятствует религиозным группам, не принимает решения на основе религиозных догм и не дает предпочтения одной религии над другой. Что же касается секуляризма, то – это идеология, которая возникла в эпоху Просвещения и исторически предполагает не только отделение государства от религии, но и часто носит откровенно враждебный характер по отношению к религии, стремясь полностью вытеснить ее из общественной жизни и культуры общества.
Если кратко, то светскость – это практический и нейтральный принцип управления, а секуляризм – это идеологическая позиция с очевидным антирелигиозным посылом. Разница между ними отражается даже в языке. Например, светскость, как принцип, не имеет градации – она либо есть, либо нет. Государство не бывает недостаточно или вполне светским. Оно либо светское, либо – нет. Секуляризм же, как идеология, имеет процесс внедрения – секуляризацию.
Светское государство появилось под воздействием идей секуляризма в континентальной Европе, прежде всего, во Франции, как следствие Французской революции. Но если там процесс разрыва с церковью носил откровенно агрессивный характер, вплоть до отмены календаря, то в остальной Европе, даже с переходом на конституционное или республиканское правление, подобный радикализм в отношении религии уже не практиковали. В конце концов, мы с вами до сих пор живем же по христианскому летоисчислению в светском государстве.
Так, политическая реальность повлияла на понятийный аппарат терминов «светскость» и «секулярность», разделив их на основе семантических различий. В следующий раз они сошлись опять только в очередной «горячей точке» истории – Октябрьском перевороте 1917 года, когда революционные фанатики решили уничтожить «старый мир», фактически, запретив религию на всем пространстве созданного ими государства – СССР.
«Светское государство» большевиков начало радикально внедрять секуляризм в форме запрета религии и атеизма, вмененного в обязанность всем гражданам страны. Отказывавшиеся следовать официальной идеологии, в зависимости от периода, наказывались либо в уголовном порядке, либо жестко вытеснялись на периферию общества, становясь лицами второго сорта, «сектантами». Таким образом, мы стали наследниками традиции, в которой секуляризм реализовывался исключительно радикально, сверху – через систему ограничений, запретов и недоверия к религиозным гражданам. К сожалению, этот советский гештальт негативного отношения к религии у нас в какой-то мере так и остался не закрыт. Отсюда и путаница между «светскостью» и «секуляризмом».
Именно она и вызывает конфликты, потому что если светскость путают с секуляризмом, то начинают требовать от государства проявлять враждебность к религии, отстаивают необходимость ее выдавливания из общественной жизни. Между тем, в большинстве светских стран мира нет никаких ограничений, налагаемых на религиозные воззрения граждан, и государство даже не видит никакой проблемы в том, чтобы идти им навстречу и поддерживать их нужды в следовании своей религии. Основываясь на Конституции нашей страны, мы должны четко заявить: светское государство – не равно секулярное государство.
– Хорошо, значит, у нас светское – только государство. А тогда какое у нас общество?
– А общество у нас является постсекулярным. Во второй половине XX века на Западе возникла концепция общественных отношений, которые определяются как постсекулярные – от терминов «после» и «антирелигиозность». Идея заключается в том, что раз прогресс не привел к «отмене» религии и она остается важным институтом общества, значит, надо искать способы гармоничного сосуществования между религиозным и нерелигиозными конструктами, чтобы избежать риска конфликта между ними. Ее основателями можно считать немецкого философа Юргена Хабермаса и канадца Чарльза Тейлор, а также ряд других крупных западных мыслителей. Их рассуждения и дискуссии по поводу природы и основ светскости государства и породили осознание необходимости реинтеграции (или религитимизации) религиозности в общественное пространство.
Проще говоря, нерелигиозный рационализм должен найти способ сосуществовать с религиозным «нерационализмом» согласно провозглашенным им же самим идеалам демократии и светскости.
Идея о том, что технический и социальный прогресс уничтожит религию, оказалась ошибочной. Настоящий вызов крайним формам секуляризма (на сегодняшний день) бросил мультикультурализм. Британская модель, которая никогда не переходила на радикальную секуляристскую модель – изгнания религии из сферы общественного – построила эффективное светское государство, сохраняя пиетет к религии. Зато во Франции мусульманская община чувствует себя гражданами второго сорта из-за законодательных ограничений своей религиозности.
Тезис Касым-Жомарта Токаева о том, что «миссия религии – консолидация нации» полностью укладываются именно в модель «светское государство плюс постсекулярное общество», которую, как мне видится, необходимо вначале осознать, а затем и полноценно реализовать в нашей стране.
– В чем заключается эта модель?
– Приверженцы нерелигиозных и религиозных взглядов должны научиться гармонично сосуществовать друг с другом. А государство, будучи институтом управления, должно способствовать этому, чтобы обеспечить консолидацию нации.
И наличие светского государства – мощнейший плюс, потому что этот институт, как третейский судья обязан быть нейтральным, обеспечивая наше сосуществование. И главная его задача на этом пути – просто вырабатывать стандарты общежития.
Это – инклюзивность и эксклюзивность. Эксклюзивность – это исключительность, то есть то, что нужно для отдельной группы, не для всех. Например, музыкальные и спортивные школы, или семинарии с медресе. Инклюзивность же – это то, когда общие стандарты дополняются требованиями и нуждами групп, которым нужны особые условия.
Если помните, в Казахстане была кампания против помещений для намаза в общественных пространствах. Кто от нее выиграл? В итоге, выяснилось, что верующие, молящиеся прямо на улице или в публичных местах, смущают нерелигиозное население еще больше, чем, если бы они тихо это делали в специализированных помещениях. А главное, в международных аэропортах обеспечение такой необходимости является частью стандарта. Конечно, это не означает требований ко всем вокруг обеспечить в частных или государственных заведениях намазхану. Но речь идет о том, чтобы там, где владелец помещения решает ее открыть для своих клиентов и работников, это не было нарушением законов и правил.
В этом плане в Казахстане есть пример успешной инклюзии – введение стандарта «халал» для пищевой продукции. Он не стал обязательным для всех производителей, но позволяет мусульманам Казахстане вполне удовлетворить свои религиозные нужды в области питания. Пострадали ли чьи-то атеистические взгляды или светские интересы от наличия халяльной колбасы в супермаркете? Нисколько! Эти примеры показывают, как светское государство может создавать условия, учитывающие потребности разных групп, не нарушая принцип нейтральности.
– Но не возникнет ли опять ситуация с хиджабами в школе?
– По сути, этот конфликт носит искусственный характер и может легко быть решен при четком понимании того, что живем мы в постсекулярном обществе. Во многих школах по пятницам уже практикуется отступление от школьной формы – в этот день администрация призывает носить предметы национальной казахской одежды. Между тем, наша традиционная одежда полностью обеспечивает соблюдение мусульманской покрытости. Достаточно просто разрешить каждодневное ношение всего двух элементов традиционной одежды казахов – белой юбочки до пят, а с ней – жаулыка или тюрбанчика-сальде. Можно даже разработать стандарт школьной формы с их применением – и проблема решена. В этом плане мы обращаемся к опыту российских школ в кавказских республиках, светскость в которых почему-то не страдает от того, что девочки в этих школах носят платочки.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.





Секуляризм, вытеснив религии, сам стал религией. Так советская идеология заменила Христа Лениным, апостолов — членами Политбюро, Библию — трудами Маркса, Сталина, Ленина, инквизицию — Комитетом госбезопасности, воскресные службы — курсами коммунистической пропаганды, священников на местах — политработниками на тех же самых местах. Ну, а тех, кто открыто не верил в «единственную правильность» курса Партии и Правительства и, более того, осмеливался возражать, тех просто наказывали. Вот и весь секуляризм в СССР.
Советский союз отменил религию, но внедрил раболепие перед КПСС и членами Политбюро. В атеистическом КНДР сейчас то же самое: вместо учений пророков — учения семьи Кимов и приближенных к ней. Не может человек жить без духовной составляющей: в любом случае он найдёт себе ориентиры (жизненные принципы) по которым будет пытаться построить свою жизнь. И исламские ориентиры — взаимопомощи, уважения к старшим, заботы о родителях, честности — для современного общества потребления и эгоизма были бы как раз кстати.
Как то в раздевалке спортзала один чел объяснял(ссылаясь на муллу) что выходить из душа не прикрываясь полотенцем нехорошо,потому что ангелы видят и им это не нравится. Потом бросил грязные бахилы рядом с шкафчиком и ушёл очень воодушвленный и довольный своим выступлением.
В платочках пусть ходят в религиозные школы