Пять факторов, добивающих экономику Казахстана

Желая как можно скорее пополнить госбюджет, правительство Казахстана одновременно повышает налоги и усиливает контроль за финансовыми операциями граждан, не снижая при этом собственные расходы, а, напротив, расширяя их за счёт новых госпрограмм с туманным эффектом. Эти решения преподносятся как «модернизация ради роста уровня жизни граждан» – но так ли это? В этом материале мы рассматриваем пять принятых в 2024-2025 годах решений, которые, по мнению многих экспертов, лишь ухудшат состояние экономики.
Фактор 1: Новый Налоговый кодекс.
Зачем увеличивать сборы, если экономика не растёт?
Недавно президент подписал новый Налоговый кодекс, завершив тем самым внедрение реформы, которую правительство начало два года назад под лозунгами «расширения налоговой базы» и «повышения социальной справедливости». Формально были обещаны снижение отчётной нагрузки, переход к сервисной модели администрирования и оптимизация ставок. Но что же в итоге мы получили?

Как уже известно, в результате реформы НДС вырастет с 12 до 16%, за несколькими исключениями. Это первое повышение в Казахстане за последние 20 лет, – и оно, безусловно, затронет большинство участников рынка. Одновременно снижается порог регистрации по НДС, то есть этот налог станет обязательным для большего числа предпринимателей. Помимо этого, вводится прогрессивный ИПН: с доходов выше 8500 МРП (примерно 33 млн тенге в год) будет взиматься 15%, а не 10%, как сейчас. Повышается также налог на имущество, вводятся акцизы на «предметы роскоши» (автомобили, жильё, яхты и самолёты совокупной стоимостью 75 млн тенге) и увеличиваются пенсионные и социальные отчисления. Мы перечислили далеко не единственные изменения, – но крайне заметные. И все они вводятся одновременно.
Публичных расчётов суммарного эффекта от реформы правительство так и не представило. Как это повлияет на инвестиции, занятость и налоговую нагрузку для разных предпринимателей – остаётся неизвестным. Минфин и Миннацэкономики ограничились лишь общими утверждениями о незначительном и краткосрочном влиянии на инфляцию, без конкретики.
Между тем, эксперты и бизнес предупреждают об обратном. С самого начала экономисты предупреждали: последствия налоговой реформы оплатят граждане – покупатели, наёмные работники и клиенты. Более 13 отраслевых ассоциаций, от переработчиков до розничных продавцов, обратились в июне к президенту с просьбой отложить подписание нового кодекса, указывая, что повышение налогов приведёт к уходу в тень, сокращению рабочих мест и снижению инвестиций. Но услышаны они не были.
Тем временем, налоговая нагрузка на фонд оплаты труда сегодня превышает 40%, что делает легальный наём экономически невыгодным. Новые нормы, особенно в сочетании с ростом НДС, усилят это давление. Многие компании предпочтут не развиваться или уйдут в тень, – а те, кто останется открытыми, переложат дополнительные издержки на потребителей. При этом сами граждане уже находятся в уязвимом положении. По результатам соцопроса фонда Qalam, проведённого в начале года, только 11,2% казахстанцев полностью удовлетворены своими доходами и их перспективами, 27,2% — «скорее удовлетворены», 30,6% – не уверены в оценке, а 27,3% прямо выражают недовольство уровнем дохода. Более того, 21,1% признаются, что живут «от зарплаты до зарплаты», имея средства только на самое необходимое.
В условиях, когда почти половина населения не может создать себе даже минимальную финансовую подушку, попытка увеличить налоговую базу выглядит не как справедливое решение, а как перекладывание нагрузки на наиболее уязвимых.
Реформа при этом не сопровождается институциональными изменениями. Налоговая система сохраняет репрессивный характер, а сервисная модель до сих пор лишь на бумаге. Многие предприниматели отмечают, что цифровизация облегчила процедуры блокировок и штрафов, но не улучшила взаимодействие с налоговыми органами, в частности, процедур обжалования доначислений. И всё это происходит на фоне заявлений правительства о стремлении «вывести экономику из тени», – в то время как официальная деятельность, напротив, становится всё менее привлекательной.
В международной практике налоговые реформы такого масштаба, когда целью действительно является стимулирование выхода из тени и сохранение доверия, а не просто увеличение сборов, – проводились с предоставлением гражданам расчётов и постепенно, с расчётом на адаптацию бизнеса и населения.
Например, в Евросоюзе системные изменения реализуются через десятилетнюю программу ViDA, рассчитанную до 2035 года. Там изменения ставок или механизмов отчётности всегда внедряются поэтапно, с обязательной оценкой влияния на бизнес и постановкой вопроса о необходимости компенсационных мер, а не принудительным постановлением «с января следующего года». В частности, в Германии с января 2024 года ставка НДС на ресторанные услуги выросла с 7% до 19% только после пяти лет льготного режима, начатого ещё в период пандемии и энергетического кризиса. Благодаря тому, что эта реформа была анонсирована заранее, с чёткими датами и не касалась всех отраслей сразу, в первый месяц только 31% прироста ставки было переложено на цену. Более того, даже через полгода в цены было переложено только около 60% от суммы повышения, – а всё благодаря тому, что бизнесу дали время адаптироваться, а населению – сохранить покупательскую способность.
В Латвии в прошлом году власти подняли, а не снизили, в отличие от Казахстана, порог регистрации по НДС с 40000 евро до 50000 евро. Это дало возможность самозанятым и микробизнесу не попасть под новое регулирование, несколько меняющее принцип расчёта порога. В Грузии налоговая реформа в середине 2000-х годов также включала не повышение, а снижение ставки с 20% до 18%, и при этом сопровождалась цифровизацией, ускоренным возвратом налога и полной перестройкой администрирования. Как ни странно, это дало рост собираемости – не за счёт увеличения ставки и давления, а через удобство, предсказуемость и доверие.
В Казахстане же текущая редакция Налогового кодекса не стимулирует развитие бизнеса, не усиливает предсказуемость, не снижает барьеры для выхода из тени. Она лишь закрепляет фискальный приоритет и усиливает контроль, при этом игнорируя потребность общества в экономической свободе и справедливом распределении нагрузки. Такой подход тормозит развитие экономики. Вместо модернизации налоговой системы реформа в представленном виде съедает ресурсы для развития предпринимательства, в то время, когда страна особенно нуждается в наращивании инвестиций, защите занятости населения и восстановлении доверия.
Фактор 2: Контроль онлайн-переводов.
Подрыв доверия под видом борьбы с теневой экономикой.
С сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу новый механизм фискального мониторинга мобильных переводов. Согласно правилам, если физлицо за три месяца получает переводы от ста и более разных отправителей на сумму свыше миллиона тенге, оно автоматически попадает под проверку.
Инициатива позиционируется как борьба с теневой занятостью и расширение налоговой базы. Однако на практике это одно из самых жёстких вмешательств в частные финансы за последние годы, которое ещё больше подрывает доверие граждан к финансовой системе и создаёт целый ряд негативных последствий.
Во-первых, как мы уже писали ранее, закон не делает различий между бытовыми и коммерческими переводами. С точки зрения системы, одинаково подозрительно выглядят и «скинулись на подарок», и помощь родственникам, и оплата за товар. Это противоречит практике развитых стран: в США, странах ЕС или Великобритании даже в рамках законодательства по борьбе с отмыванием доходов переводы между физлицами не облагаются налогами и не попадают под автоматический фискальный мониторинг, если речь не идёт о целенаправленной изначально доказанной деловой деятельности.
Во-вторых, мера нарушает презумпцию невиновности. Каждый активный пользователь переводов автоматически считается подозрительным. Это переворачивает базовый принцип правового государства: «разрешено всё, что не запрещено». В условиях, когда миллионы казахстанцев используют мобильные переводы для повседневных нужд, подобный подход лишь усиливает желание скрыть свои доходы от государства.
В-третьих, это наносит удар по банковской системе и финтеху, который до этого момента активно развивался. Опасаясь давления, люди начинают массово уходить в наличные расчёты, криптовалюту, неформальные схемы. И это не просто слова – есть объективная статистика. Например, в Нигерии пытались внедрить аналогичную меру в 2023 году. В итоге, как показал анализ местного Центрального банка, всего за два месяца доля наличных в обороте выросла с 45% до 75%. И даже в Казахстане практически сразу после анонса контроля переводов Нацбанк уже зафиксировал снижение темпов роста переводов и рост объёма наличных средств. Риски ощущают и банки: снижается оборот, сокращается доход от комиссий, под угрозой инвестиции в цифровые продукты. В итоге финтех-инфраструктура, которая годами стимулировалась государством и приносила ему пользу, оказывается под ударом со стороны фискальной политики того же государства.
Все эти решения приводят к снижению финансовой прозрачности на макроуровне: чем больше расчётов уходит в тень, тем хуже государство понимает реальную платежеспособность граждан и объём неформального сектора. То, что задумывалось как способ «наведения порядка», лишь углубляет статистическую слепоту, с которой у Казахстана и без того огромные проблемы.
При отсутствии внятных алгоритмов существует также риск произвола и ложных блокировок, пострадать может любой пользователь. Сейчас в Казахстане нет механизмов судебной апелляции по таким случаям. Один резонансный эпизод с блогером или предпринимателем, чьи счета были заморожены, способен вызвать волну отказа от использования банковских услуг.
Особенно уязвимыми становятся самозанятые, которых государство теперь воспринимает как нарушителей, но так и не предложило им понятных легальных форм участия в экономике. По данным НПП «Атамекен», они составляют более 20% рабочей силы. Многие прямо говорят, что работают вне правового поля не потому что не хотят платить налоги, а потому что не видят смысла в регистрации: нет стимулов, высокая нагрузка, отсутствует доверие. Государство же вместо того чтобы предлагать простые и привлекательные механизмы легализации, начинает с угроз. Это не выводит людей из тени, а, наоборот, разрушает доверие и тормозит цифровизацию.
При этом показательно, что вместо расширения возможностей для легальной занятости власти вводят дополнительные ограничения. Так, новый Налоговый кодекс запрещает совмещать статус индивидуального предпринимателя и самозанятого на онлайн-платформах. Если раньше человек мог днём торговать на рынке, а вечером подрабатывать в такси, то теперь ему придётся выбирать одно. Такое решение сужает поле легального заработка и бьёт прежде всего по тем, кто пытается честно совмещать несколько небольших доходов. Никаких внятных объяснений этому ограничению не представлено. А ведь госслужащим с 2021 года, наоборот, официально разрешили подрабатывать в такси, – выходит так, что тем, кто получает зарплату из бюджета, подработка не мешает, а остальным она уже считается риском.
Между тем, в других странах ставка делается на стимулирующие меры, упрощающие вхождение граждан в экономику. Например, в России, Индии, Мексике введены специальные режимы для самозанятых: простая регистрация, плоские налоги через приложение, отсутствие жёстких проверок. Это позволило не выдавливать людей в тень, а вовлекать их в экономику без угроз. У нас же решили необдуманно «идти своим путём». Естественная реакция – переход граждан к наличным расчётам, отказ от онлайн-платежей, хранение наличных и уход в неформальные схемы, такие как криптовалюты.
В следующей публикации мы подробно расскажем о еще трёх факторах: неэффективных бюджетных субсидиях, разрастание нацпроектов без пересмотра бюджета и слабой денежно-кредитной политике.



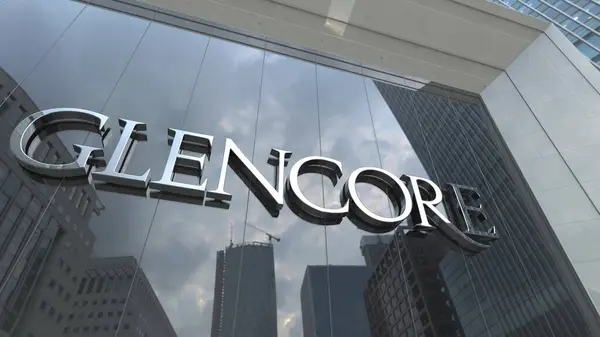

Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.