Почему Абай не дает покоя современным людям?
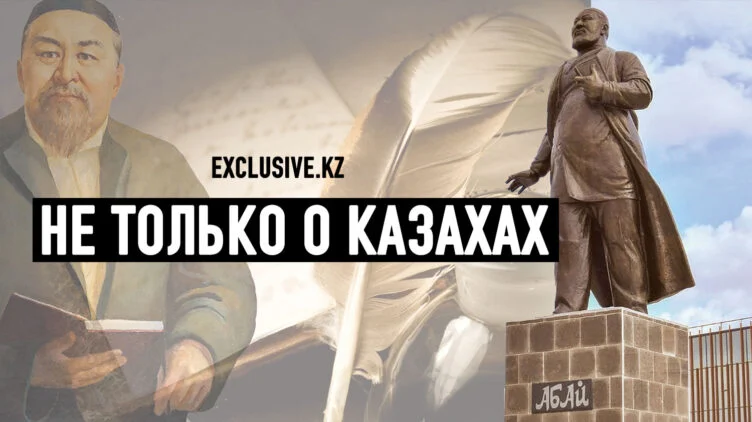
«Қара сөздерi» («Слова назидания») Абая интернациональны, они не зависят от страны и исторического времени, – говорят люди, знакомые с философским трактатом степного гения.
Роман с театром
– Для меня, случайно попавшего в актерскую профессию, степной гений стал верным спутником по жизни, – говорит народный артист СССР Асанали Ашимов. – Если я скажу, что состоялся как театральный актер благодаря ему, – это будет правдой.
Я сыграл на сцене Ауэзовского театра около 30 ролей. Первой моей самостоятельной работой на сцене была роль во втором составе трагедии «Абай». Я играл Айдара, ученика поэта. Когда режиссер постановки Азербайжан Мамбетов скомандовал: «Давай, выходи!» – актеры встретили мое появление на сцене смехом. Смеяться было над чем! От того, что я не знал, куда девать руки и ноги, у меня, кажется, и мысли одеревенели. Но больше всего смущала партнерша. Шолпан Жандарбекова годилась мне в матери, но в спектакле она играла мою возлюбленную. Несмотря на ее уговоры: «Мы же с тобой всего лишь партнеры!» – я не знал, как сказать ей слово «люблю».

«Я вам еще покажу, кто есть кто», – пообещал я мысленно труппе, которую в тот момент ненавидел. Смех старших коллег так подстегнул меня, что дальше я работал над ролью как проклятый, да еще успевал бегать вечерами в театр (он тогда был объединенным) на спектакли и русской, и казахской труппы. И зритель принял моего Айдара! Маленький успех окрылил. Так благодаря Абаю начинался мой роман с театром – с упрямства, настырного желания постичь все его секреты. Любовь к нему входила в мою жизнь постепенно вместе с первыми поощрительными, а потом уже бурными, идущими от сердца аплодисментами зрителей…
«Абай вчера внезапно стал моим дедушкой»
Проживающая в Италии украинка Леся Орлова после прочтения «в один присест» «Слов», сказала, что в них нет ничего, чего бы она не знала раньше, но есть поразительная интонация первооткрывателя, немного детская, очень простая и человечная. Свойственная великим мыслителям, честно и внимательно отслеживавшим свои наблюдения и формулировавшим выводы с бесхитростной искренностью и беззащитной откровенностью.
– Абай Кунанбаев пишет о конкретном времени, о конкретном народе, а выходит, что о любом времени и любом народе, – говорит Леся. – Пишет о себе, а выходит, что обо мне. Временами, читая, я ловила себя на довольно смешном желании: обнять Абая. Бывает, тебе остро нужен дедушка. У меня его не было. Так вот. Нужен не просто «старший», не родители, не бабушка, а именно дедушка, чтоб его спросить или поделиться с ним, а он чтобы сидел, попыхивая трубочкой, и неспешно и вдумчиво отвечал. Не «про любовь», не о том, «как оно было в старину», а о чем-то большом, что понял, потому что давно живет, и может объяснить с честностью и бесстрашием человека, которому нечего терять. И вот Абай вчера внезапно был таким дедушкой для меня. Я ему говорю: дедушка Абай, мне что-то совсем стало тоскливо, потому что мир, похоже, сошел с ума, во всех странах, во всех городах, наверху и внизу. Ехать некуда, потому что везде бред творится, и хочется остановить планету – «я сойду». Это что, так теперь и будет?
А он говорит, спокойно так: «Я хоть и живу, живым себя не считаю. Не знаю, от досады ли на людей, от недовольства ли собой, а может, и по какой иной причине. Внешне жив, внутри все мертво. Сержусь, но не испытываю гнева. Смеюсь, но не могу радоваться. Слова, произносимые мной, и смех кажутся мне не моими. Все чужое. В молодые годы и не помышлял о том, что можно оставить свой народ. Когда же довелось узнать людей, когда постепенно угасла моя надежда, обнаружил: нет уже той силы, которая позволила бы покинуть родные края, породниться с чужими. Поэтому в груди у меня сейчас – пустота. А вообще думаю: может, оно и к лучшему? Умирая, не буду страдать: «Увы, не привелось изведать еще такой-то радости!..» Не терзаясь сожалениями о земном, утешусь надеждой на предстоящее».
Я тогда говорю: дедушка, я так на себя злюсь, я стала такая глупая, теперь совсем мало читаю и смотрю мало стоящих фильмов, и, как Пушкин говорил, ленива и нелюбопытна…
Он вздыхает: «Младенец тянется к ярким вещам, берет их в рот, пробует на вкус, встрепенется, услышав звуки свирели. Подросши, теряет покой, спрашивая обо всем, что видят глаза и слышат уши: «Что это? Зачем это? Почему он так делает?»– это уже потребность души, желание все видеть, все слышать, всему учиться.
Не раскрыв для себя видимых и невидимых тайн вселенной, не объяснив всего себе, человеку не стать человеком. И бытие души такого человека тогда ничем не разнится от бытия иной твари. Душа правила нами только в детстве. Повзрослев и окрепнув, мы не позволили ей повелевать собой, подчинили душу телу, на все окружающее смотрим глазами, но не разумом, не доверяемся порывам души. Довольствуясь внешним видом того, что охватывает взор, не пытаемся вникнуть во внутренние тайны, полагая, что ничего не теряем от этого незнания. Чем отличаемся мы от животного, если видим только глазами? В детстве мы были лучше. Тогда мы были человеческими детьми – стремились узнать как можно больше. Сейчас мы хуже скота. Животное не знает ничего, но и не стремится ни к чему. Мы не знаем ничего, но готовы спорить до хрипоты: отстаивая свою темноту, стремимся свое невежество выдать за знания».
– И я тоже воспринимал Абая, как родного деда, – говорит кино– и театральный режиссер Талгат Теменов. – Впервые я услышал Абая в 5 классе, когда на уроке литературы прозучало его стихотворение «Қыс» – «Зима». Мелодия этого стиха настолько прекрасна, что даже перевод, который я прочитал позже, не лишил магии абаевское творение.
В белой шубе, плечист, весь от снега седой,
Слеп и нем, с серебристой большой бородой,
Враг всему, что живет, с омраченным челом
Он, скрипучий, шагает зимой снеговой.
Потом, когда я был уже значительно старше, мне показалось, что «Қыс» – это элегия о любви, а сейчас – тоска по ушедшей молодости.
Когда я стал студентом театрального факультета консерватории, где много читали и декламировали Абая, его поэзия оказалась так близка моему внутреннему миру, а мировоззрение гения так совпадало с моим, что однажды мне показалось, что Абай – мой родной дед. Возможно, тогда это были мои юношеские фантазии – мне очень хотелось иметь родственную душу в лице деда, а аташек у меня никогда не было. Но теперь, когда прошло много лет, я понимаю, что Абай – родной и близкий любому человеку, кто знаком с его творчеством.
Несколько лет назад я разместил даже в соцсетях открытое письмо – «Абайға хат», где говорил о том, что для всей интеллектуальной России Ясная Поляна (музей-усадьба Льва Толстого . – ред.) стала литературной Меккой, и как жаль, что Семипалатинская область не носит имя Абая. И когда, наконец, появилась Абайская область, был рад, что мои и многих других казахстанцев душевные желания были реализованы, и что 180-летие Абая отмечают именно там.
Мой Абай
– Впервые я столкнулся с Абаем школьником младших классов, – рассказывает Кайрат Закирьянов, президент Казахской академии спорта и туризма. – Село Караотколь,
Самарского района Восточно-Казахстанской области было сплошь русскоязычным. Мы, немногочисленные казахи, жившие в окружении русских и немецких соседей, больше были знакомы с обычаями и традициями этих народов, чем со своими, родными, казахскими.
Я приобщился к родной культуре благодаря маме. Она, не по-деревенски интеллигентная и образованная женщина, несмотря на огромную загруженность – работа в школе, дом, хозяйство, дети – очень много читала. Однажды мне попалась в руки книга, которую мама еще не успела поменять в нашей деревенской библиотеке. Это был роман «Путь Абая». С первых же страниц передо мной стал открываться огромный степной мир!
Я, третьеклассник в ту пору, увлекся романом так, что напрочь забыл об улице, откуда мне обычно было не загнать домой и об обязанностях по дому. А мама, видя, с каким упоением я читаю «Путь Абая», и не трогала меня.
Однажды к нам приехали какие-то люди. Потом я узнал, что это был известный столичный журналист, мамин родственник Тохтар Шарипжанов, работавший в сатирическом республиканском журнале «Ара». Он заехал в наши края для расследования каких-то коррупционных дел. Как потом со смехом вспоминала мама, Тохтар сказал ей, что приехал «лить воду в нору барсука».
Пока мама накрывала на стол, он увидел меня с книжкой в руках. Гость протянул руку: «Дай-ка посмотреть». Уважительно протянул: «О-о! «Путь Абая»! В каком классе учишься? В третьем? Молодец! Но Ауэзова читать надо в оригинале. Ни один перевод не передаст того, о чем хотел рассказать читателю большой писатель». И это было действительно так, но чтобы понять это, мне понадобился не один десяток лет.
После «Пути Абая» я открыл для себя его «Қара сөздерi». В них можно найти ответ на любую жизненную коллизию. Особенно мне близко «Тридцать седьмое слово» о взаимоотношениях лидера и толпы: „Кто отравил Сократа, сжег Жанну д’ Арк, распял Христа, закопал Мухаммеда в верблюжьих останках? Толпа. Значит, у толпы нет ума. Сумей направить ее на путь истины“. Только человек огромного духа мог сказать это: признавая глупость и невежество, он призывает не ненавидеть ее, а работать с ней, и учиться от нее самому.
Разве эти слова не актуальны сейчас? Гений, даже мертвый, всегда раздражает толпу. Мне приходилось слышать от продвинутых интеллигентов, что Мухтар Ауэзов придумал образ крутого степного гения, чтобы через него самому стать гением. Я допускаю, что такое могло быть, но не допускаю, что наша степь не могла родить такого гения, как Абай.
Правда о человеке
– Личность Абая откликается в сердце каждого из нас по-разному, – считает переводчик «Қара сөздері» Ербол Жумагул. – Для кого-то он – герой сегодняшнего дня, потому что его «Қара сөздері» актуальны и сейчас тоже, а для кого-то он – историческая личность. Для меня он – гениальный поэт и композитор, чья музыка до сих пор современна. За всем этим стоит человек со сложной судьбой, один из первых интеллектуалов, которые пытались выйти за границы «казахского мира». И, собственно говоря, цель его критики – приобщить казахов к мировым знаниям.
В одном из моих стихотворений есть такая строчка – «поражений учительский свет». Мне кажется, что Абай в своем творчестве, особенно в «Қара сөздері», проявился как свет наших поражений, на которых мы должны учиться. Ведь его 45 слов-назиданий – как беспощадное зеркало, в котором мы отражены такими, какие мы есть. Не очень красивы мы в нем, но что поделаешь. Наша цель – сделать так, чтобы все написанное Абаем про нас стало неправдой.
– В последнее время много читаю драматическую лирику Абая, – говорит писатель Асель Омар. – У него есть стихотворение «Адам – бір боқ көтерген боқтың қабы», которое перекликается в своей жесткой и беспощадной оценке человеческой природы с шекспировским «Гнусному и доброта, и мудрость кажутся гнусными; грязи – только грязь по вкусу» (из «Троила и Крессиды»). Оба автора – в разные эпохи и культуры – доходят до обнаженной правды о человеке. Абай не просто разоблачает телесную природу, но и критикует моральную несостоятельность, пошлость, лицемерие, мнимую благопристойность, которой страдает общество.
Абаевское «Есть ли яд, не испитый мною?» – это глубокое признание трагедии духа. В нем он говорит от лица человека, уставшего от лжи, от бессмысленности, от разочарования в людях, в словах, в времени. Это исповедь, где обнажено не только страдание, но и жажда смысла.
Сегодня, когда мы живем среди бурного потока информации, это стихотворение говорит о боли мыслящего человека, который не может смириться с цинизмом и безмыслием. В его строках – отказ от фальши и одновременно непрекращающееся стремление к свету. Это, наверное, метамодернистская честность: без иллюзий, но с надеждой, что за страданием есть пробуждение. Абай объясняет наш мир, потому что говорит о вечном: о тоске по чему-то настоящему, цельному, неподдельному в человеке.





Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.