Почему президентская модель парламентской реформы – меньшее из зол?
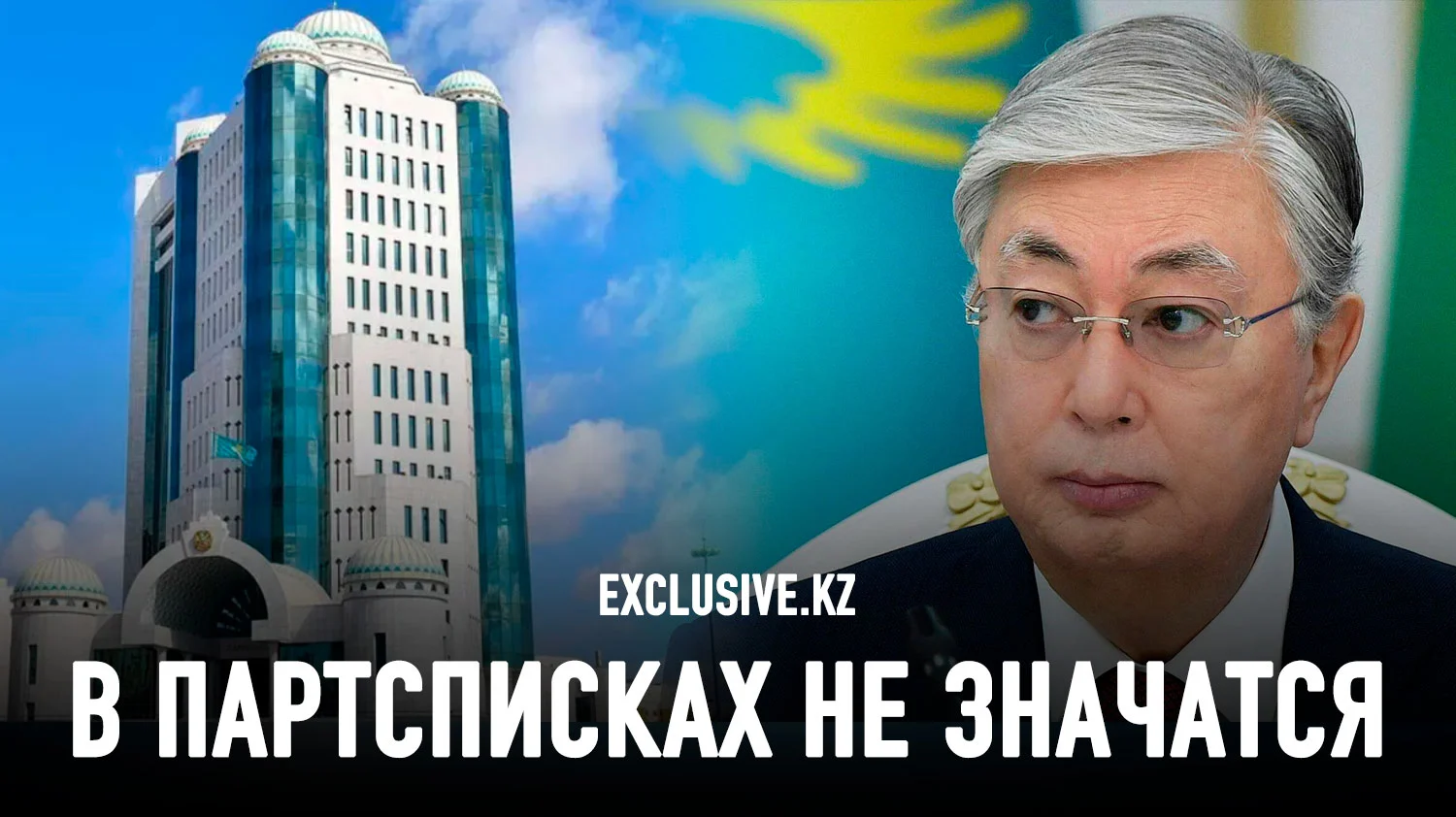
Казахстан должен остаться государством с сильной президентской властью. В мире парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, – высказал свой приговор глава государства.
Недавно политолог Досым Сатпаев говорил в одном из интервью о том, что конечный итог работы «экспертной группы» по реформированию парламента предопределен. Понятно, что демонтаж двухпалатного назарбаевского парламента (а верхняя его палата – «ноу хау» и любимое детище первого президента) и возведения на его месте однопалатного – токаевского – вопрос решеный не только наверху. «Низы» в большей своей части даже не подозревали о такой надстройке и практически не заметят исчезновения сената. Поэтому недавно, поздравляя соотечественников с днем Республики, президент высказался прямо и безальтернативно: «В Послании мною четко заявлено о необходимости перехода к пропорциональной системе выборов в однопалатный парламент. Формирование однопалатного парламента только по партийным спискам будет способствовать институциональному укреплению партий, их системной работе с избирателями, а значит, пойдет на пользу нашей государственности. В этом нет никакого регресса или отказа от демократических принципов. В моем предложении присутствует здравый политический смысл, продиктованный искренней заботой о нашей стране».
Эти слова президента можно «перевести» так: мне (а значит, стране) нужен компактный однопалатный парламент, сформированный исключительно партиями – без всяких потенциальных сюрпризов от «вольных» самовыдвиженцев. То есть, дискуссия о том, станем ли мы завтра гражданами президентско-парламентской (или даже парламентско-президентской) республики завершена, так и не начавшись. И, похоже, этот категорический приговор находит отклик в обществе.
Речь не только о «палате лордов», которая при первом президенте превратилась в некий красивый и комфортный аквариум, в котором доживали свой политический век некогда могущественные «золотые рыбки». Так уж вышло, что сам институт парламентаризма в Казахстане почти никогда за новейшую историю независимости страны не был ни авторитетным, ни влиятельным – каким его хотел видеть Токаев, провозглашая еще в дебюте своего президентства триединую «формулу власти» – «сильный президент – влиятельный, авторитетный парламент – подотчетное правительство». Общественное мнение в нашем отечестве всегда отличалось ярко выраженной «президентоцентричностью». На протяжении лет и даже десятилетий все социологические замеры неизменно демонстрировали подавляющий отрыв президента – на фоне мизерной поддержки остальных двух ветвей власти. Наша социологическая служба – фонд Qalam – не первый год опрашивает казахстанцев и всякий раз получает «на выходе» цифры, подтверждающие, что наши сограждане больше всего доверяют именно президенту.

Так было всегда – что в «новом» Казахстане, что в старом , и Касым-Жомарт Кемелевич прекрасно это понимает. Но, в отличие от своего предшественника, он значительно более уязвим. Возможно, сейчас, в условиях внешней турбулентности и заметно нарастающего внутреннего раздрая в экономике ему самое время вовсе отказаться от эфемерного парламента и, как когда-то Назарбаев, штамповать необходимые президентские указы, волюнтаристски наделив их «силой Закона». Но он понимает: в им же самим объявленном «новом» (он же «слышащий», он же «справедливый») Казахстане эта карта уже не «ляжет». Токаев, как это не покажется странным, объявив еще в 2019 году о «глубоких, «порой через колено» преобразованиях не только в экономике, но – и прежде всего – в политике, стал в какой-то степени «аманатом (в смысле, заложником) собственного курса. Но он вынужден, как принято говорить в таких случаях, заливать новое вино в старые мехи.
Злую шутку со вторым президентом сыграла укоренившаяся при первом практика непотизма, отрицательного кадрового отбора, тотальной коррупции и связанной с этим круговой поруки. В итоге все попытки запустить – даже в тестовом, пилотном режиме – «демократические процедуры» приводят в лучшем случае к выбору меньшего из нескольких зол. Так (надеемся, что так!) случилось 12 октября в Семее с первыми прямыми выборами акима этого знакового для всей страны города. Из троих с партбилетами партии власти «выбрали»-таки одного, при очевидно «нарисованной» явке избирателей. Во всяком случае, сами семейчане говорили журналистам, что не горели желанием идти на голосование.
По большому счету, результат семейского эксперимента был так же предсказуем, как итог «подбитой на взлете» парламентской реформы. Очевидно, что по-настоящему конкурентный политический рынок – с реальной многопартийностью (вернее, с настоящей межпартийной борьбой – не за благосклонность существующей верховной власти, а за право сформировать свою – на основе парламентского большинства) – перспектива далекая и с нынешней колокольни фантастическая .Для этого в обществе нет никаких предпосылок, поскольку нет главного условия политической конкуренции – множественности и разнонаправленности политических элит. Именно это, кстати, обеспечивает постоянную межэлитную конкуренцию и регулярную сменяемость власти в так называемых «стародемократических» странах. Хотя, заметим в скобках, незыблемый вроде бы механизм этой сменяемости того и гляди даст сбой – причем, не где-нибудь, а в «цитадели» западной демократии – США.
Если вернуться к казахстанским реалиям, то для строительства сильного и хотя бы равного президентскому института парламентаризма сегодня объективно нет подходящих «стройматериалов» – хотя не исключено, что в первое свое президентское трехлетие Токаев еще питал иллюзии на сей счет. Во всяком случае, как показалось многим наблюдателям, он вполне искренне говорил накануне «очередных внеочередных» парламентских выборов о том, что хотел бы видеть в новом депутатском корпусе «конкурентную борьбу различных политических сил», а себя – арбитром и гарантом законности этой борьбы. Но очень скоро всем – и прежде всего, президенту – стала ясна иллюзорность этих надежд.
Новый парламент, впервые после долгого перерыва сформированный по пропорционально-мажоритарному принципу (70\30) – не стал ни эффективнее, ни политически перспективнее своего стопроцентно нуротановского предшественника. Почему? Прежде всего, из-за того, что, большинство так называемых «самовыдвиженцев» оказались либо действующими, либо бывшими членами партии власти. А те, кто к ней формально не принадлежал, что называется, погоды не делали. Как не делала ее и искусственно организованная «парламентская оппозиция», метко прозванная кем-то из журналистов «живым уголком». Правда, среди его обитателей заметно выделяется бойкий и – отдадим ему должное! – заматеревший вождь «светлопутейцев» Азат Перуашев. Но он лишь подчеркивает убогость «общего пейзажа» парламента. Даже такой вроде бы яркий в бытность советником первого президента персонаж, как Ермухамет Ертысбаев, сдулся и полностью маргинализовался после своего де-факто назначения предводителем и до того момента карикатурных «народных коммунистов». Такое ощущение, что весь смысл появления «соловья Назарбаева» в этой партии был окончательно утрачен после исчезновения из ее названия слова «коммунистическая» – вместе с буквой «К» почти сразу «исчезли с радаров» и сама партия, и ее квазилидер. Остальным «питомцам» живого уголка парламентской оппозиции вовсе не стоит уделять внимание: их пропажи на политическом поле никто, кроме политологов-аналитиков даже не заметит…
А теперь, внимание, вопрос: можно ли из такого «подручного материала» создать «влиятельный, авторитетный многопартийный парламент? Ответ, на наш взгляд, очевиден – и он явно не обрадует апологетов «парламентско-президентской (не говоря уже о чисто парламентской) республики. Даже если за оставшийся год с лишним до сноса сенатской «надстройки» усилиями госсоветника Ерлана Карина на политподмостках появятся еще несколько «новых» партий (а практика показывает: в наших палестинах партстроительство «снизу» практически невозможно – как по объективным, так и по субъективным причинам), реальный политический расклад в стране это никак не изменит. Думать иначе – все равно, что верить слухам о якобы имеющихся у господина госсоветника планах стать третьим президентом. В конце концов, тем, кто мало-мальски знаком с новейшей историей страны, хорошо известно: само появление таких слухов – стопроцентная гарантия их несбыточности…
Словом, абсолютно прав наш постоянный автор профессор Эдуард Мухамеджанов, когда говорит о всех недостатках стопроцентно «партсписочного» депутатского корпуса. Но он прав и когда констатирует: «В то же время, сознавая, что в Казахстане действует режим управляемой демократии, то нет сомнений, что будет реализована только модель выборов депутатов Парламента, предложенная Президентом РК».
Действительно, как может быть иначе в президентоцентричной стране? Всем же ясно дали понять: Казахстан был и останется президентской страной – без всяких «если бы?» и «почему бы не?». А это значит, что нам стоит расслабиться и приготовиться получить удовольствие: наш «представительно-законодательный орган» так и останется де факто нотариальной конторой при правительстве – зато не абы какой, а многопартийной! И не беда, что нарушается конституционное право беспартийных казахстанцев баллотироваться в мажилис – пусть для начала идут в маслихаты, где глава государства предложил стопроцентную «мажоритарку».
И это правильно, ведь реальная политика начинается «на земле»,…а заканчивается где? Правильно, в Акорде.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.

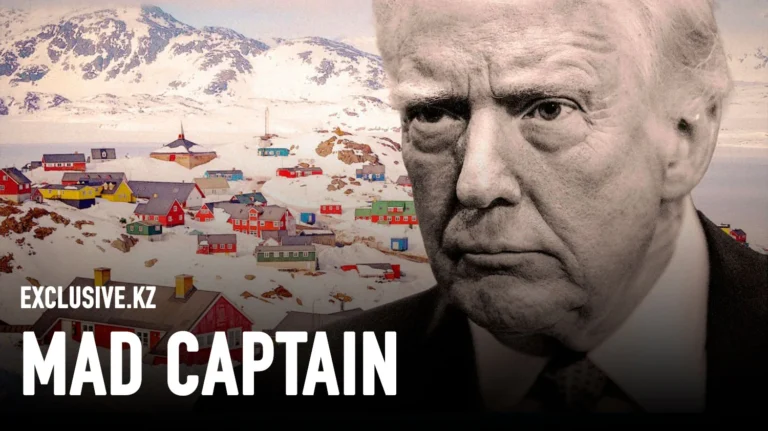
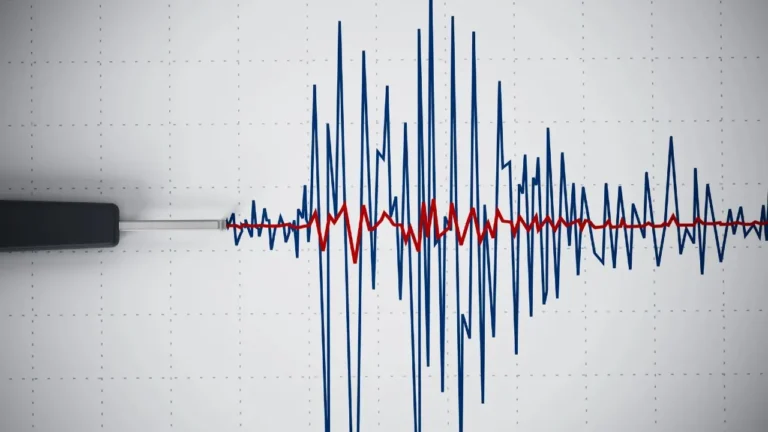


И второе. Сенат — в определенном смысле, это как тормоза в автомобиле. Который может в необходимом случае остановить разболтавшийся механизм болтунов-депутатов мажилиса, тем более — не избранных народом, в случаях когда депутаты принимают опасные для народа решения. В истории немало было крахов государств из-за разболтанности парламента, например, в Польше. Хорошо, что время для раздумья дали.
Если всё будет идти как идет, то следующий парламент будет называться парламентом «несмыслёнышей» и «трюкачей»!!! Подумайте сами: на прошедших выборах с большой помпой подавалась новая партия со звучным передовым названием и все ждали — вот они молоды надежда наша дадут свежий всплеск в жизнь!.. И что: молодой бородач-«лидер» в предвыборье объявляет на весь свет: мы, мол, «в партию старых не берем, старую собаку новым трюкам не научишь»!.. По его словам, он получается, «молодая собака» — «иттің баласы», кешір, құдайым. Не хватает извилин ему подумать — кого, какой народ, он представляет?.. И вот, если с такой помпой сугубо администраторски 100% всучат таких «модернизаторов», то что останется от народа в считанное время, который лишится на 100% выдвигать своих кандидатов в «парламент», а будут только плясать там «трюкачи»?!? Ведь если не смыслят еще оные в том, что говорят — ведь Аденауэру, вытащившему ФРГ из пропасти было 87 (!) лет, Черчиллю 77 лет, а Киссинджер до смерти в 100 лет оставался авторитетнейшим дипломатом современности!.. Ведь умственные способности зависят не от возраста — даже этого не знают те, кого выдвигают… С печалью я гляжу на это поколенье… «несмышленностей»…