Почему управляющий класс Казахстана не носит по примеру президента отечественное?
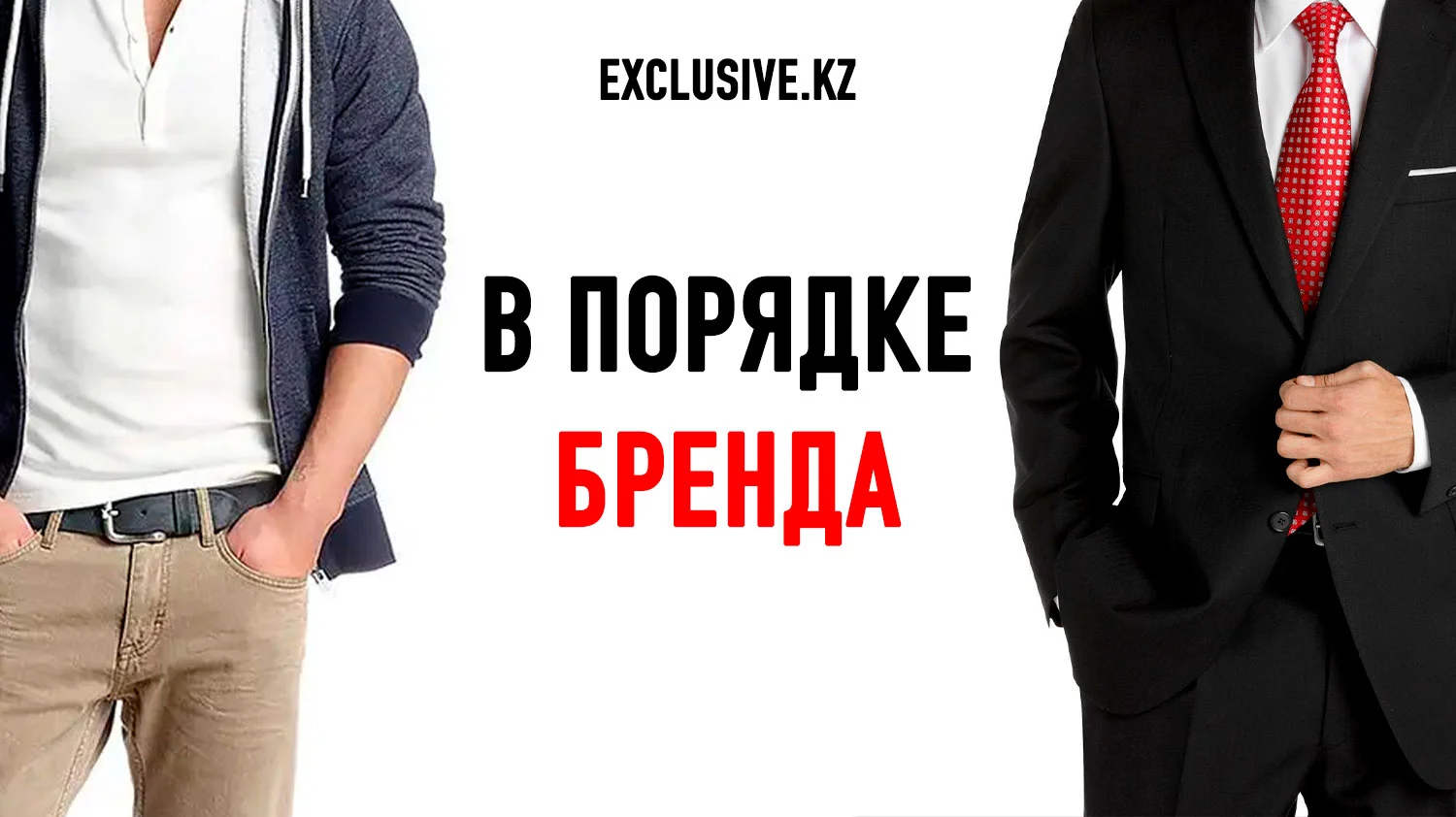
В Казахстане давно утвердился стереотип о «страшно далекой от народа» власти. Причем, в сегодняшнем государстве, объявленном «слышащим» и «справедливым», дистанция эта едва ли сократилась. Еще много лет назад правозащитник Евгений Жовтис говорил: «власть и народ у нас играют в разных командах». Как мы нередко видим, наш правящий класс подхватил «заразу», которую политолог Досым Сатпаев назвал однажды проявлением «ментального неоколониализма»: элита копирует чужие символы успеха, вместо того чтобы создавать свои.
По большому счету, наш правящий класс все еще не наигрался в игры с «брендами» и прочими побрякушками, которые уже давно наскучили миру, когда-то их изобретшем. Достаточно взглянуть, как одевается Цукерберг, Гейтс или тот же Маск – при всем обилии тараканов в его голове. Они к своему внешнему виду относятся достаточно прагматично.
У нас синдром «ментального колониализма» или, говоря проще, комплекса неполноценности, проявляется сплошь и рядом – причем, на высшем государственном уровне. Но, что гораздо хуже!– становится стереотипом массового сознания. Страна вот-вот отметит 35-летие независимости, а ее управляющий класс так и не научился (не захотел учиться?) демонстрировать urbi et orbi примеры странового патриотизма, единения с социумом. А социум, в свою очередь, встречает власть по одежке вместо того, чтобы судить государственную элиту прежде всего по делам ее.
Стоит вспомнить волну сетевого негодования, обрушившуюся на головы пары сотрудников нашего МИД, поехавших в аэропорт встречать госсекретаря первой трамповской администрации Майка Помпео в мешковатых, зато теплых куртках и бесформенных то ли шапках, то ли малахаях. Ой-бай, что о нас подумает высокий заокеанский гость!

Зато, когда аким области приезжает в пострадавший от стихии райцентр на элитном внедорожнике, в сопровождении свиты – в дорогих костюмах и туфлях, это вызывает в обществе приступ недоверия к власти. А ведь аким этот думает и действует по тем же стереотипам, что и критики встречавших Помпео мидовских клерков: что обо мне народ подумает?! А что хорошего может подумать народ про бастыка, прикатившего на шикарном авто в лаковых башмаках «поддержать» чумазых селян, многие из которых в одночасье лишились не только домашнего скарба, но и самого дома. Понятно, как в таком обществе может быть воспринято появление перед публикой министра здравоохранения в туфлях Valentino Fendi, когда в больницах страны пациенты – мамы с маленькими детьми – лежат в коридорах буквально под ногами врачей и медсестер. К слову, этим врачам и медсестрам надо несколько месяцев (а то и лет) откладывать всю свою зарплату, чтобы накопить на наряды забрендованных чиновников.
Ничего подобного, кстати, вы не обнаружите в аккаунтах европейских политиков самого высокого ранга. Чего стоит нашумевший несколько лет назад случай: две премьерши правительств соседних североевропейских стран появились на саммите ЕС в одинаковых платьях, приобретенных в ZARA за какие-нибудь полсотни евро – и ничего, мир не перевернулся! Спросите «почему?» А потому, что там, за бугром вовсю работает принцип меритократии.
Что это, собственно, такое – меритократия? Автор термина – английский социолог Майкл Янг писал об этом в 1958 году: «Сегодня мы открыто признали, что демократия – не более чем ожидание. Нынешнее правление осуществляется не столько через народ, сколько через наиболее умную часть народа – не аристократию по рождению и не плутократию, а истинную меритократию таланта. Точно так же старый аппарат с помощью уменья и такта осуществлял гораздо большую власть, чем парламент, поскольку он был хорошо подобран и обучен».
Сегодня нашему управленческому аппарату не хватает именно того, о чем писал Янг почти 70 лет назад – «уменья и такта». Одно из этих качеств невозможно без другого: когда во главе экономического блока правительства стоит человек с заочным дипломом экономиста или когда за торговлю и интеграцию отвечает министр, не обладающий практическим опытом в этой сфере.
Справедливости ради скажем: стремление не быть, а слыть – отнюдь не «ноу хау» «нового Казахстана». Еще в 2013 году побывавший в Казахстане Робб Янг, журналист, написавший книгу «Power Dressing: First Ladies, Women Politicians and Fashion» про «гардеробы, которые правят миром», говорил в интервью о модном стиле казахстанских чиновниц – Натальи Коржовой,Гульжаны Карагусовой, Нины Жусуповой и Елены Бахмутовой. По его словам, каждая из этих женщин, оставившая заметный след в становлении казахстанской государственности, отличается «говорящей» манерой одеваться. «Кажется, что она обожает предметы роскоши больше всех, кто здесь представлен. Она из таких, кто не боится появляться на публике роскошной. Даже если Наталья не богатая женщина, своим видом она демонстрирует, что является таковой. Если Коржова действительно богата, то она не стыдится показывать свое состояние». – сказал он о Коржовой. «Она понимает, что ей нужно разбираться в моде. «Она понимает, что не особо правильно одевается, но старается, – «расшифровал» Янг факт покупки Гульжаной Карагусовой сумочки Gucci. – Мне кажется, что она получает удовольствие от одежды». Елена Бахмутова, по наблюдениям Робба Янга, разбирается в моде и является образцом женского политического стиля. «Она понимает, какие ингредиенты и как использовать, чтобы выглядеть настоящей женщиной-политиком. Ее единственное послание: «Я одеваюсь в соответствии со своим статусом, так, как надо»… На ней эрмесовский шарф, – глядя на фотографию банкира Нины Жусуповой, сказал Робб Янг. – В Европе такой шарф – показатель принадлежности женщины к буржуазии».
То есть, по мнению британского модного обозревателя, эти грандессы большой политики своим стилем одежды посылают обществу скрытый сигнал: да, мы представляем правящую элиту, но не кичимся своим статусом и своими возможностями. И ни у кого «из народа» не возникало желания поинтересоваться у Коржовой, Бахмутовой и тем более – у Жусуповой, откуда у них деньги на такие туалеты. Ответ очевиден и не вызывает никакого «социального протеста. Да, страна тогда переживала относительно «тучные» (в сравнении с сегодняшними) времена. Но по иронии судьбы именно сегодня, в эпоху острого бюджетного кризиса на грани того, что финансисты называют «кассовым разрывом», вопрос к нашим рулевым «по одежке ли протягиваете ножки?» приобретает особую актуальность.
Между тем, стремление больше казаться, нежели быть одолело отечественный истеблишмент еще со времен расцвета First family с ее давно известным пристрастием к роскошной жизни – символом которой можно по праву считать Даригу Назарбаеву. В бытность депутатом и зампредом мажилиса она обожала эпатировать публику, появляясь в зале заседаний в блузках, брюках и пиджаках дорогих и престижных западных брендов. А однажды выступала в телеэфире от имени созданной ею «партии малых дел» «Асар» с увесистыми бриллиантовыми серьгами в ушах. Но в случае с Даригой общество прекрасно понимало, кто она и откуда «дровишки».
Так было в том, «старом» Казахстане, где на «неоколониальных» понтах строилось все – от гардероба чиновников до архитектурных «излишеств» столицы, многие из которых – такие же «реплики» с оригиналов мировых столиц, как и наряды заклеванной сегодня хейтерами главы минздрава.
Этой «ярмарке тщеславия» не видно ни конца, ни края. Хотя и президент не устает призывать своих подчиненных и весь правящий класс быть скромнее, «меритократичнее». И даже сам подает пример – носит костюмы казахстанского пошива, правда, из итальянской ткани.
Станет ли этот пример заразительным?
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.





Инд. пошив у классного портного — это очень круто, не каждому по карману. Говорит о вкусе и возможностях человека!
Стоит вспомнить волну сетевого негодования, обрушившуюся на головы пары сотрудников нашего МИД, поехавших в аэропорт встречать госсекретаря первой трамповской администрации Майка Помпео
————
Ну, во-первых было вопиющее нарушение протокола: Госсекретаря должен был встречать министр иностранных дел, как минимум.
Во-вторых, да было нарушение этикета в одежде.
Зачем это нарочитое пренебрежение? Это же было сделано демонстративно. Чтобы выслужиться перед Москвой и Пекином? Наверняка сказалось на отношениях между Казахстаном и США.