Подготовка к глобальному евро
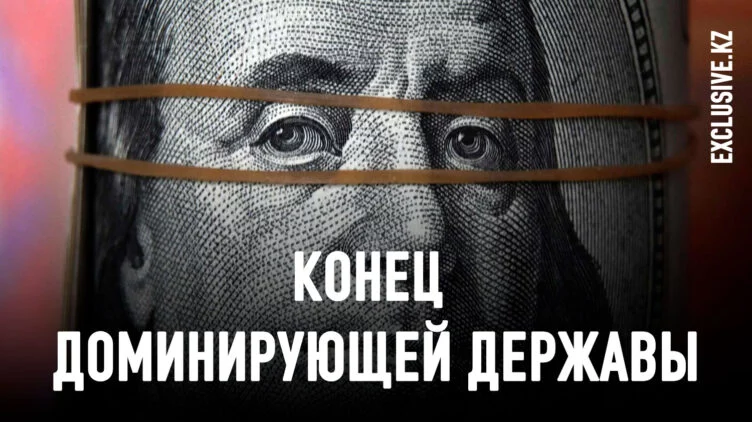
Хотя международные валютные и финансовые системы нельзя назвать незыблемыми, они меняются нечасто. Именно поэтому поражает шок, вызванный торгово-тарифной войной президента США Дональда Трампа. И его трудно объяснить. Чтобы понять происходящее, стоит вспомнить теорию Чарльза Киндлбергера о гегемонистской стабильности, которую он изложил в книге «Мир в депрессии: 1929-1939». Согласно теории Киндлбергера, открытая и стабильная международная система зависит от наличия доминирующей мировой державы.
В XIX веке такой державой была Великобритания. Будучи мировым финансовым гегемоном (лидером глобальной экономической системы и эмитентом господствующей международной валюты), Британия обеспечивала важнейшие общественные блага. К ним Киндлбергер относил «поддержание, благодаря британской свободе торговли, рынка для товаров в периоды кризиса», а также контрциклический поток капиталов, формируемый лондонским Сити. Кроме того, Британия помогала «координировать макроэкономическую политику и валютные курсы» с помощью «правил золотого стандарта», которые «легитимизировались и институционализировались практикой». Наконец, Банк Англии выступал в качестве «кредитора последней инстанции».
Однако Первая мировая война подкосила Британию. К 1930-м годам у неё уже не было достаточных ресурсов для поддержания международной валютной системы. А Америка, хотя и являлась державой на подъёме, была ещё не готова занять место Британии. Этот «интервал Киндлбергера» – промежуточный период между мировыми гегемониями – совпал с Великой депрессией и эскалацией политического хаоса, кульминацией которого стала Вторая мировая война.
Ближе к концу войны, в 1944 году, делегаты из 44 стран встретились в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир), где они организовали плавный переход от старой гегемонии к новой. Тем самым они подтвердили фактическое превосходство торговой, финансовой и военной мощи США.

В то время на долю США приходилось 35% мирового ВВП. Но хотя доля Америки в мировом ВВП с тех пор снизилась, доллар сохраняет господство в качестве резервного актива, валюты расчётов, а также якоря для фиксации валютных курсов. Кроме того, политические решения ФРС США и показатели американской экономики по-прежнему влияют на мировой финансовый цикл.
Однако, судя по всему, мы приближаемся к новому «интервалу Киндлбергера». Действующий гегемон занялся саморазрушением, отказываясь предоставлять глобальные общественные блага, а явного кандидата на замену нет. Евросоюз не готов занять его место, а Китай даже не интегрирован в мировые финансовые рынки.
В то время как остальной мир считает господство доллара «непомерной привилегией», администрация Трампа, похоже, убеждена, что глобальный спрос на долларовые активы – это тяжкое бремя, потому что, по её мнению, он толкает вверх курс валюты. Но если США продолжат движение по нынешней политической траектории, их вскоре «освободят» от этого бремени – и не важно, хотят они этого или нет.
Чтобы валюта играла международную роль, страна, которая её эмитирует, должна обладать экономическим превосходством и занимать центральное место в мировой торговле. Эти качества зависят от её инновационного и экономического потенциала, при этом важную роль играют также военная мощь и геополитические союзы. Всё это невозможно без открытой экономики и качественных, стабильных институтов.
Проводя политику, ослабляющую американские институты, фундаментальные научные исследования, систему многосторонних отношений и долгосрочные перспективы экономики, Америка Трампа быстро снижает доверие к доллару. Это стало особенно очевидно, когда в начале апреля Трамп объявил о введении сверхвысоких пошлин на товары из десятков стран, имеющих профицит в двусторонней торговле. Доходность облигаций США сразу выросла, фондовый рынок упал, а доллар обесценился. Такое сочетание событий обычно характерно для развивающихся стран.
Экономические и финансовые проблемы, созданные Трампом в США, дают шанс еврозоне (эмитенту второй по значимости международной валюты) частично воспользоваться непомерной привилегией, которой так долго пользуются США. Речь идёт об удешевлении капиталов для правительств и бизнеса стран еврозоны (что поможет повысить бюджетную устойчивость) и об упрощении рефинансирования в периоды кризисов, поскольку спрос на «безопасные» активы в евро вырастет. Кроме того, речь идёт об усилении геополитического влияния, что крайне важно в период, когда ЕС стремится достичь стратегической автономности.
Хотя с интернационализацией связаны определённые риски, еврозона хорошо позиционирована, чтобы их смягчить. Например, система макропруденциальной политики в еврозоне намного сильнее американской, она поможет справиться с ростом волатильности потоков капитала и цен на активы. Европа может также похвастаться сильными институтами (начиная с Европейского центробанка) и верховенством закона.
Но для того, чтобы еврозона смогла повысить международный авторитет евро, нужны дополнительные шаги. Прежде всего, еврозоне надо углублять единый рынок товаров и услуг, а также укреплять торговые отношения везде, где это возможно. Учитывая глобальное климатическое лидерство Европы, можно рассмотреть возможность выставления в евро счетов за продукцию, полезную для климата (к примеру, декарбонизированное энергооборудование, электромобили, товары для электрификации), одновременно создавая соответствующие финансовые инструменты (например, привязанные к хеджированию климатических рисков).
Еврозона должна обязаться завершить создание банковского союза и союза сбережений и инвестиций, согласно недавним рекомендациям сразу нескольких политических докладов. Для создания глубоких, интегрированных рынков капитала (они важны для инноваций и роста экономики) нужно постараться предложить реально безопасные активы в масштабах еврозоны. Хорошим началом стал бы выпуск единых долговых обязательств для покрытия чрезвычайных оборонных расходов.
Кроме того, еврозона обязана повышать суверенитет своей платежной системы, не допуская сохранения её сильной зависимости от американских систем. Для этого она, возможно, должна будет опереться на цифровую валюту центробанка (CBDC), дополняемую надёжной платёжной системой (возможно, со стейблкойнами в евро). Наконец, функцию ЕЦБ как кредитора последней инстанции следует тщательно структурировать, чтобы гарантировать массовое, сильное доверие к евро.
Осуществить все эти изменения непросто. Но если Киндлбергер чему-то нас научил, урок таков: мировой экономике будет лучше, если Европа быстро закроет брешь, возникшую из-за отказа США от мирового экономического и финансового лидерства.
Copyright: Project Syndicate, 2025.





Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.