Саммит ШОС: центр тяжести смещается в Евразию

Прошедший саммит ШОС многие расценили как презентацию новой системы мироустройства. Но какую роль этот саммит играет для стран Большой Центральной Азии и Южного Кавказа? И почему Си так выделял казахстанского президента? Что хотел сказать миру Китай, устроив пышный военный парад в честь 80-летия победы Китая и союзников над Японией во Второй мировой войне? Об этом exclusive.kz поговорил с с Закиром Усмановым, экспертом ННИЦ «Билим карвони» (Узбекистан), Ровшаном Ибрагимовым, политологом, доктором Университета регионоведения Хангук (Сеул), Куатом Домбаем, директором Центра изучения стран Центральной Азии С5+, Эльданизом Гусейновым, сооснователем политического форсайт-агенства «Nightingale Intelligence» (Казахстан).
– Действительно ли на площадке ШОС была представлена новая система мироустройства, о необходимости которой так много говорили? Согласны ли вы с этой точкой зрения?
Ровшан Ибрагимов: Я не согласен. Среди участников есть те, кто хотел бы видеть формирование новой системы мирового порядка, но сама по себе ШОС – это не та площадка, где можно обсуждать и реализовывать такие масштабные инициативы. Если говорить о мультиполярном миропорядке, то в этом аспекте ШОС сильно уступает, например, Европейскому союзу или НАТО. Причина в том, что сама организация остается неопределенной: то ли платформа по безопасности, то ли экономическому сотрудничеству, то ли военный альянс? Ни то, ни другое, ни третье.
Исторически ШОС создавалась как инструмент для предотвращения усиления влияния Запада в Центральной Азии. Это было общим интересом Китая и России – не допустить внешнего вмешательства в регион. Со временем изначальные идеи размылись, но организация сохранила ценность как площадка для диалога – как многостороннего, так и двустороннего.

Закир Усманов: ШОС – это не столько площадка для глобального переустройства мира, сколько инструмент с более узкими целями, и здесь важно учитывать исторический контекст. Если вернуться к истокам, то можно вспомнить о Восточно-Туркестанской республике 1930–40-х годов. После распада СССР встал вопрос о рисках территориальной целостности Китая, в первую очередь в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Именно поэтому ШОС в значительной мере формировалась как инструмент для предотвращения сепаратистских движений, чтобы не допустить сценария по примеру независимых стран Центральной Азии.
Китай последовательно продвигает три принципа: борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Постепенно организация расширилась и охватила вопросы экономики, торговли, региональной безопасности. Сегодня можно сказать, что ШОС находится на этапе формирования своего окончательного формата.
Однако здесь возникают вызовы для стран Центральной Азии. С одной стороны, участие в ШОС открывает новые возможности, с другой – сохраняется риск превратиться в инструмент интересов более крупных игроков. Для наших стран ключевой вопрос заключается в том, сумеем ли мы использовать вызовы и противоречия глобальной политики в своих интересах, а не оказаться заложниками чужих стратегий.
Куат Домбай: Прежде всего, ШОС не является единым блоком. Страны-участницы имеют множество противоречий между собой, и это сильно влияет на эффективность организации. При этом важно отметить: нынешний саммит ШОС во многом был использован как площадка для заявлений Китая. По сути, именно Пекин продемонстрировал, что мир уже перешел к многополярному формату. ШОС стала лишь удобным инструментом для этого месседжа. И в этом смысле проведение парада к 80-летию с приглашением лидеров 26 стран, параллельно с саммитом ШОС, было четким сигналом о новой реальности.
И важно понимать: дело здесь не столько в ШОС как таковой. Есть ряд общих интересов, которые объединяют Россию, Китай, Иран и Индию. Всё это напрямую связано с нынешним противостоянием с Западом и с процессом переформатирования мирового порядка. Старые правила больше не работают, а новые пока только формируются.
Эльданиз Гусейнов:
На мой взгляд, принятая в Тяньцзине совместная декларация заслуживает особого внимания. В ней зафиксировано, что все члены организации, включая Индию и Пакистан, осуждают действия США и Израиля, связанные с обстрелом территории Ирана. Это, на мой взгляд, один из первых четких сигналов, который нельзя игнорировать.
Если еще два месяца назад Индия отказывалась поддержать подобное заявление, то на этот раз все стороны сумели его подписать. В этом можно увидеть явное разграничение: есть действия США, а есть позиция ШОС, которая строится на своих принципах. Среди них – невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также осторожное отношение к теме прав человека, особенно в случаях, когда она используется для давления в интересах других государств.
В декларации содержатся и другие ключевые положения, которые, как я считаю, Россия и Китай рассматривают как основу для возможного реформирования ООН или даже создания альтернативной глобальной структуры. Примером является инициатива «Сообщество единой судьбы человечества», которая была официально включена в документ и поддержана не только Россией и Китаем, но и Индией, Пакистаном и другими членами ШОС.
Особое внимание уделяется и концепции безопасности: одна страна не может усиливать собственную безопасность в ущерб безопасности соседей. Этот тезис активно продвигала Россия еще до конфликта в Украине, в том числе на площадках ОБСЕ. Теперь он получает дополнительную легитимность в рамках ШОС.
Поэтому я считаю, что ШОС не стоит рассматривать в сравнении с ЕС или другими интеграционными объединениями. Это, скорее, пространство, где формируется группа государств-единомышленников, готовых поддерживать базовые принципы, которые Россия и Китай намерены продвигать дальше – в том числе через реформу ООН. Казахстан, кстати, также активно поддерживает это направление.
-Что прошедший саммит означает для стран Центральной Азии и Кавказа?
Ровшан Ибрагимов: Начну с того, что количество игроков в ШОС заметно увеличилось, а сама организация стала куда более инклюзивной площадкой. Особенно если учитывать присутствие Индии и Пакистана, которые с момента обретения независимости находятся в конфронтации, а совсем недавно их противостояние вновь вылилось в вооружённое столкновение.
Кроме того, среди участников есть ряд государств, которым не до конца понятно, что именно они хотят получить от участия в ШОС. У всех разные цели. При этом стоит напомнить, что изначально организация формировалась именно для Центральной Азии. И Китай, и Россия имели схожие опасения относительно усиления влияния Запада в этом регионе, который для них считался «мягким подбрюшьем». Для Китая особое значение имели риски, связанные с панисламизмом и пантюркизмом, которые могли затронуть Синьцзян-Уйгурский автономный район.
Сегодня ситуация изменилась. ШОС обрела слишком много акторов: наблюдателей, партнёров по диалогу. Возьмём, к примеру, Азербайджан. Еще два года назад никто и представить не мог, что Баку станет рассматривать возможность участия в этой организации. Но после 44-дневной войны внешнеполитическая активность Азербайджана заметно усилилась, и теперь есть интерес к формату ШОС. Объяснение простое: участие в организации не несёт угрозы для суверенитета страны, что для Баку – первоочередное условие любого международного взаимодействия. Азербайджан традиционно предпочитал двусторонние отношения, но сейчас он уже подал заявку на вступление.
Любопытно, что вместе с ним заявку подала и Армения. Однако их позиции столкнулись с противодействием: Азербайджанская заявка была заблокирована Индией, тогда как армянская – Пакистаном, который, в свою очередь, имеет особые отношения с Азербайджаном. Это наглядно показывает, как меняется восприятие ШОС странами Южного Кавказа. Но здесь важный момент: для этих стран участие в организации не ограничивает их суверенитет. Армения продолжает тяготеть к Западу, Азербайджан сохраняет нейтралитет. Грузия же в формате ШОС отсутствует.
Закир Усманов: ШОС – это площадка, которая находится в постоянной трансформации. Появляются новые члены, и этот процесс меняет баланс внутри организации. Ранее доминирующими игроками были Китай и Россия, а с появлением Дели и Исламабада структура приобрела больше баланса и открыла новые возможности для маневра.
В то же время важно понимать контекст. Президент Узбекистана во время саммита справедливо акцентировал внимание на вопросах безопасности. Сегодня мы находимся в ситуации высокой турбулентности: геополитические процессы фактически вышли из-под контроля, привычные нормы международных отношений перестают работать. Российско-украинский конфликт, противостояние Ирана с США и Израилем, напряжение вокруг Тайваня, угрозы со стороны Северной Кореи в адрес Южной Кореи и Японии – всё это создаёт крайне нестабильную картину.
В этих условиях главная задача стран Центральной Азии – не оказаться втянутыми в чужие конфликты и не превратиться в инструмент реализации чужих интересов. Это, пожалуй, один из ключевых вызовов.
Если говорить о возможностях, то они, безусловно, есть. При условии, что страны Центральной Азии смогут выработать единую позицию, их голос в рамках ШОС станет гораздо весомее. Да, мы пока остаёмся относительно слабыми в экономическом и технологическом плане, но именно поэтому нужно активнее использовать механизмы, которые предлагает сама организация. Один из примеров – инициатива о создании инвестиционной площадки «ШОС-Инвест». Это как раз тот инструмент, который Центральная Азия могла бы использовать совместно, извлекая реальные выгоды из участия в объединении.
Эльданиз Гусейнов: После вступления Ирана в ШОС организация фактически замкнула вокруг себя всё географическое пространство Центральной Азии. Остаётся лишь вопрос участия Азербайджана, и тогда можно будет говорить о формировании полноценного ядра ШОС в этом регионе. Именно Центральная Азия становится ключевым центром объединения.
Я согласен, что ШОС – это, прежде всего, площадка для переговоров. Здесь можно собрать в одном месте лидеров и центры силы Евразии, чтобы продвигать инициативы, которые важны для региона. Примером может служить предложение президента Таджикистана о создании пояса безопасности вокруг Афганистана. Оно сначала прозвучало на саммите, затем вошло в декларацию, а позже стало реализовываться усилиями самих стран – Таджикистана и Узбекистана. Это показывает, что не обязательно ждать координации всех участников: отдельные государства могут продвигать идеи в формате ШОС и находить партнёров для их воплощения.
Схожим образом продвигаются и другие инициативы: афганская железнодорожная магистраль, антинаркотический центр в Душанбе, центр по противодействию угрозам безопасности в Узбекистане, а также идея интеграции железнодорожных систем стран ШОС. Эти шаги формируют практическую повестку, которая укрепляет региональные связи.
Я вижу в этом определённую историческую параллель. ШОС можно рассматривать как своего рода «венский конгресс» Евразии – попытку выработать новые ценности и правила взаимодействия после периода глобальной нестабильности. Для Центральной Азии это особенно важно. Здесь сходятся ключевые факторы: борьба с терроризмом и экстремизмом, реагирование на торговые войны, поиск альтернативных форм сотрудничества в условиях санкционного давления. Ведь Иран, Беларусь, Россия уже находятся под санкциями, Китай потенциально может оказаться в аналогичной ситуации. Для стран Центральной Азии жизненно необходимо развивать торговлю с соседями и продвигать расчёты в национальных валютах, снижая зависимость от доллара.
Мы также видим, что центр тяжести постепенно смещается внутрь Евразии. Если раньше многие члены ШОС, включая Индию, были ориентированы преимущественно на Запад, то теперь приоритеты меняются. Внешние факторы, такие как тарифная политика США, заставляют государства переосмысливать стратегические связи и активнее выстраивать взаимодействие внутри Евразии.
Для Центральной Азии это открывает новые перспективы, поскольку именно через её территорию проходят ключевые маршруты коммуникации и транспортной интеграции. В то же время остаются вызовы: терроризм и региональная нестабильность напрямую угрожают развитию этой взаимосвязанности.
Куат Домбай: Если говорить о новом мироустройстве, то сегодня мы наблюдаем фактор регионализации, в котором Китай играет ведущую роль. Это особенно заметно в странах ШОС, за исключением, пожалуй, Индии. Для Центральной Азии Китай уже стал крупнейшим торговым партнёром – и даже для России он сегодня играет ключевую роль. Подписание проекта «Сила Сибири-2» на саммите лишь закрепило эту зависимость: Россия теперь получает до 70% своего импорта именно из Китая.
Это не просто экономика, а фактор, имеющий большие политические последствия. Мы можем говорить о формировании Китае-центричного мира, в который всё плотнее втягиваются и Центральная Азия, и Россия. Но это создаёт и новые противоречия: роль России в регионе уменьшается из-за войны в Украине и общей ослабленности, в том числе в сфере безопасности. В результате образуется вакуум: ОДКБ фактически не функционирует, Россия теряет позиции, а это уже вызвало сдвиги не только в Центральной Азии, но и в Сирии, на Южном Кавказе.
Интересы Китая в регионе огромны, и его влияние будет только усиливаться. Возникает вопрос: перерастёт ли это в новые договорённости по региональной безопасности в рамках ШОС? Вероятно, именно об этом говорил президент Узбекистана в Пекине, когда затронул тему вооружений и безопасности. Мы сейчас находимся в переходный момент, когда ослабевает не только Россия, но и Европа, и США. В этих условиях Центральная Азия оказывается в центре новых раскладов.
– В наших СМИ широко обсуждали расстановку лидеров на фотографиях с саммита: Си Цзиньпин в центре, слева от него – Токаев, справа – Путин. Это подали как знак особого отношения Китая к Казахстану. На ваш взгляд, это был осознанный сигнал или просто интерпретация со стороны медиа?
Куат Домбай: Я уверен, что это был осознанный сигнал. Китай ничего не делает случайно. Расположение Токаева рядом с Си Цзиньпином, а Путина – с другой стороны, в то время как премьер Индии Нарендра Моди оказался на периферии, – это политическое послание. Так Китай подчеркнул стратегическую значимость Казахстана.
Это не должно удивлять: первый зарубежный визит Си Цзиньпина после пандемии был именно в Астану, где он заявил о поддержке территориальной целостности и независимости Казахстана. Сегодняшняя демонстрация – это продолжение того же курса. Для Китая Казахстан играет ключевую роль в условиях обостряющегося противостояния с Западом. Центральная Азия и Россия – это энергетический тыл, способный компенсировать Китаю даже перекрытие морских маршрутов. Кроме того, Токаев свободно говорит по-китайски и выстроил тесные отношения с руководством КНР. Всё это делает его фигуру особенно значимой для Пекина.
Эльданиз Гусейнов: Я бы сказал, что это, прежде всего, вопрос протокола. На официальных мероприятиях существует чёткий порядок: справа от лидера стоит самый почётный гость, слева – также важный, но всё же менее приоритетный. Поэтому, безусловно, Казахстан для Китая важен, но по сравнению с Россией приоритеты расставлены иначе. Об этом же говорит и тот факт, что на военном параде место, где раньше стоял Токаев, занял Ким Чен Ын.
-Одним из символических событий стало завершение саммита военным парадом в честь 80-летия победы Китая и союзников над Японией во Второй мировой войне. Какой сигнал хотел послать Китай этим шагом?
Ровшан Ибрагимов: Здесь, на мой взгляд, совпало несколько факторов. С одной стороны, дата сама по себе значимая, и парад в Тяньцзине был масштабным, изящным и продуманным. Но в то же время это был месседж. Военные парады всегда имеют политический подтекст – они транслируют сигнал либо миру в целом, либо конкретному региону.
В данном случае участие большого числа лидеров стало своего рода продолжением того, что мы видели в Москве, но с поправкой: победителем во Второй мировой войне был не только Советский Союз. Китай продемонстрировал, что внёс собственный вклад и имеет право на это признание. Не случайно он занимает постоянное место в Совете Безопасности ООН, хотя исторически оно сначала принадлежало Тайваню.
Китай напомнил: война не завершилась только победой над Германией в мае, её настоящим финалом стала капитуляция Японии. И этот акцент формирует собственный «исторический бренд» Китая, его интерпретацию глобальной памяти о войне.
Закир Усманов: Я бы перевёл всё это на более простой язык. Главный смысл в том, что Китай говорит Западу: «Оставьте нас в покое, мы будем действовать по-своему». Парад – это не только праздник, но и демонстрация силы. «Посмотрите, что у нас есть, с нами надо считаться».
Это классический жест для авторитарных систем – СССР делал то же самое, Россия делает, КНДР и Иран тоже. Военный парад становится способом показать мощь и в то же время суть политической системы: мы встали с колен, мы выросли, и теперь можем диктовать условия.
Эльданиз Гусейнов: Мне кажется, здесь есть определённое перекликание с историческими фактами. Вспомним Курскую битву и немецкие танки – сразу возникают параллели с нынешним расширением немецкого военного присутствия в Литве. Парад в Китае к 80-летию победы, как и российский парад к 80-летию Великой Отечественной, – это своего рода игра в историю, напоминание о том, кто был победителем.
Очень символично, что на параде рядом с Си Цзиньпином стоял Ким Чен Ын, заняв место, которое раньше было у Токаева. Это тоже отсылка к истории: ведь ещё в начале XX века Япония установила контроль над Кореей, и именно это стало плацдармом для её дальнейшей экспансии в Китай. Теперь же спустя 80 лет рядом с китайским лидером стоит северокорейский лидер – это сигнал, что история может повторяться, но уже в иных условиях и с другими коалициями, особенно на азиатском фланге.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.


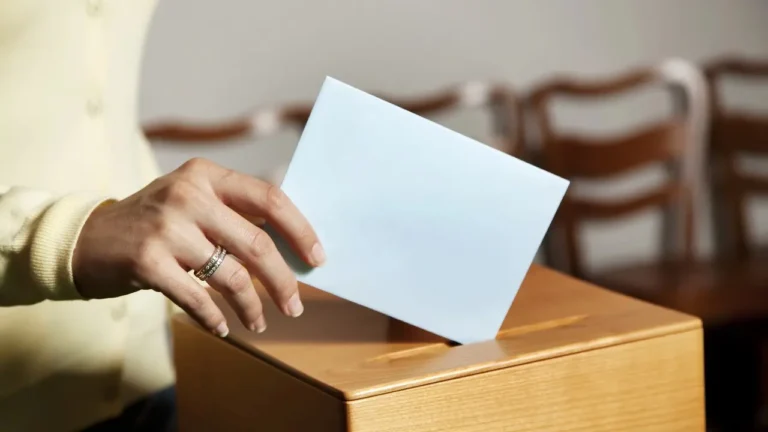
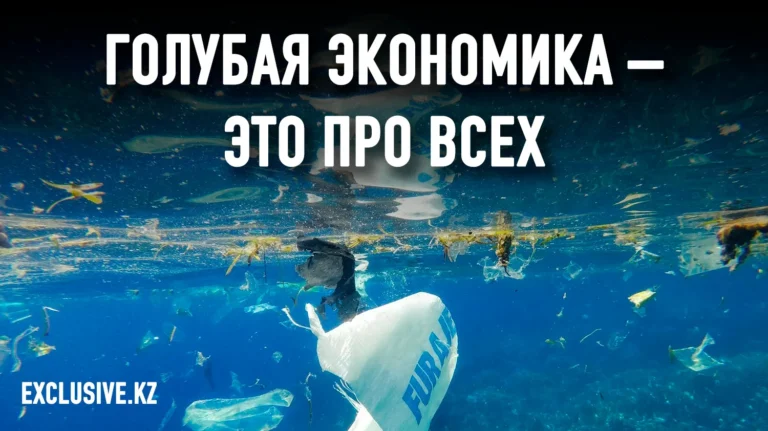

Путин пытается хоть где-то проявиться!
Деньги и технологии на Западе, а ШОС так, говорильня и только.