Шоу для Токаева: правительство работает на одного зрителя

Выступая на Kazakhstan Growth Forum 2025 (K25) вице-премьер Серик Жумангарин объяснил высокую инфляцию сугубо высоким экономическим ростом. Он также сказал, что в следующем году нас ждет «смена экономической парадигмы» и теперь мы наладим производство с высокой добавленной стоимостью. А ослабление тенге полезно для бюджета. Действительно ли это так? О чем не договаривает вице-премьер? Об этом exclusive.kz поговорил с экономистом Рахимбеком Абдрахмановым.
– Высокий экономический рост без инфляции возможен. Но только тогда, когда он основан на росте производительности труда, инвестициях в оборудование и технологии, когда в экономике растёт доля частных инвестиций, а не государственных, и увеличивается производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Сейчас же в Казахстане мы видим не качественный, а количественный рост. Основные макроэкономические показатели говорят о том, что заявлять о «высоком экономическом росте» некорректно. Экономика растёт сугубо за счёт масштабных государственных расходов, а не за счёт реального расширения производственных мощностей или увеличения налоговой базы.
В прошлом году расходы государства достигли беспрецедентных 27 трлн тенге – почти в два раза больше, чем правительство заработало. Из них около 7 трлн были покрыты за счёт внутренних и внешних заимствований, а 6 трлн – из средств Нацфонда. То есть примерно половина всех расходов была профинансирована не заработанными деньгами, а за счёт долгов и резервов.
Эти средства направлялись в основном на строительство и потребление, что создает временный эффект экономического роста. Однако этот рост искусственный и неустойчивый. Он не связан с реальным повышением эффективности или увеличением производственных возможностей.

Почему государство идёт на такие траты? Среди экономистов есть консенсус: делается это, чтобы поддержать основной экономический тезис президента – удвоение ВВП к 2029 году. Других источников для достижения этой цели сегодня просто нет.
Тем временем, приток иностранных инвестиций падает: в прошлом году Казахстан даже вышел «в минус» по их объёму, а первое место в регионе занял Узбекистан. Без внешних и частных инвестиций невозможно устойчиво развивать экономику, потому что именно они обеспечивают вложения в оборудование, технологии и производство.
Таким образом, экономический рост, о котором говорит правительство, – скорее иллюзия. Он вызван не развитием экономики, а масштабными госрасходами. Природа этого роста – не продуктивная, а потребительская, и потому он не может быть долгосрочной опорой для страны.
– Вице-премьер Жумангарин также заявил, что с будущего года в Казахстане произойдет «смена парадигмы экономического роста» – переход от добычи полезных ископаемых к их переработке и производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Как может в следующем году случиться то, чего не произошло за 30 лет?
– Это очень серьёзное заявление, которое должно иметь не менее серьёзные основания. Однако на практике мы не видим никаких признаков такой трансформации. В прошлом году нефть обеспечила около 60 % всех валютных поступлений в Казахстан и примерно половину доходной части бюджета. Чтобы уйти от этой зависимости, нужно, чтобы в экономике начались процессы, способные замещать столь значительные нефтяные и валютные доходы. Но этого не происходит.
86 % всех инвестиций, сделанных в экономику в прошлом году, пошли в добычу и первичную переработку сырья – прежде всего в нефтяной сектор. На глубокую переработку, промышленность и высокотехнологичные направления пришлось лишь 4–5 % инвестиций. Из всего объёма банковского кредитования корпоративного сектора только 3 % направлены в обрабатывающую промышленность.
При таких пропорциях говорить о «смене парадигмы» невозможно. Пока не понятно, чем именно Казахстан собирается заместить нефтяные доходы, на которые до сих пор опирается экономика. Поэтому подобные заявления, на мой взгляд, не соответствуют реальному положению дел – ни по данным, ни по структуре экономики.
– Он заявил, что уже к 2026 году нефть перестанет играть определяющую роль в росте ВВП, и представил это как результат усилий правительства. Как вы оцениваете это заявление?
– Если посмотреть, из чего сегодня складывается рост ВВП Казахстана, то в каком-то смысле можно согласиться: нефть действительно перестала быть главным фактором роста. Но не потому, что экономика стала более диверсифицированной, а потому что основным источником роста стали государственные и потребительские расходы. Нефть по-прежнему обеспечивает значительную часть бюджетных доходов, но рост ВВП сейчас поддерживается за счёт трат, а не за счёт реального производства.
Государство активно расходует средства, которых фактически не зарабатывает, и этим искусственно стимулирует экономику. Параллельно растут расходы населения – опять же, не из собственных доходов, а за счёт кредитов. На начало этого года долг домохозяйств достиг примерно 25 трлн тенге, из которых около 70 % – это потребительские кредиты. То есть люди тратят деньги не на развитие бизнеса, а на повседневные нужды.
Потребление при этом напрямую влияет на ВВП, ведь оно – одна из его ключевых составляющих. Но проблема в том, что и государство, и население тратят то, чего не зарабатывают. По данным Национальной ассоциации инвесторов, 54 % доходов казахстанцев уходит на еду. Это говорит не о росте благосостояния, а о том, что экономика живёт за счёт заимствований – государственных и частных. Такой рост, возможно, и не нефтяной, но он кредитный, а значит – крайне уязвимый. Сколько он может продлиться, прежде чем обернётся масштабным финансовым кризисом или дефолтом, предсказать сложно.
Косвенно, сам Жумангарин подтверждает эту зависимость от госрасходов. Он заявил, что для стимулирования перехода к новой модели роста правительство запустит инвестиционную стратегию объёмом более 116 млрд долларов, направленную на ключевые промышленные проекты и модернизацию инфраструктуры. Иными словами, даже провозглашённая «смена парадигмы» снова будет финансироваться из бюджета, то есть за счёт всё тех же государственных расходов, а не за счёт рыночных или частных инвестиций.
– Мы понимаем, что модернизация ЖКХ будет финансироваться за счёт повышения тарифов, а это означает рост инфляции. Но где государство возьмёт остальные деньги? Неужели вся ставка делается на новый Налоговый кодекс и рост налоговых поступлений?
– На самом деле, основная и самая затратная часть программы – это модернизация национальной инфраструктуры, на которую, по плану, предусмотрено около 40 трлн тенге. Эти средства предполагается направить на 204 проекта. Правительство заявляет, что большая часть – около 36 трлн тенге – будет привлечена из внешних источников: через механизмы государственно-частного партнёрства, иностранные инвестиции и различные заимствования. Однако ключевая проблема Казахстана заключается не в том, что нет денег на модернизацию, а в том, что деньги, которые выделялись ранее, не давали результата.
На протяжении последних лет огромные средства уже направлялись на дороги, коммуникации и инженерные сети, но качество этих проектов оставалось низким. Причина – высокая коррупционная рента. Мы видели объекты, которые разрушались сразу после сдачи, школы и больницы низкого качества, недостроенные мосты, такие как ЛРТ в Астане.
На начало этого года совокупный долг правительства и нацкомпаний уже составлял около 50 трлн тенге: 30 трлн – это госдолг (внутренний и внешний), 20 трлн – задолженность национальных холдингов «Самрук-Казына» и «Байтерек». Если к этому добавить новые кредиты и обязательства, то долговая нагрузка станет ещё тяжелее. И если эти средства снова будут расходоваться по тем же схемам – с коррупционными потерями, завышенными сметами и затянутыми сроками, – то эффекта от них не будет.
Мы можем получить лишь временный рост ВВП за счёт строительных работ и кратковременной занятости, но затем придётся возвращать долги, и это приведёт к ещё большему бюджетному давлению. Кроме того, структура инвестиций уже сегодня вызывает тревогу. Около 70 % внутренних инвестиций направляется на строительство и ремонты, и лишь около 20 % – на основные средства и производственные мощности. Это означает, что экономика по-прежнему ориентируется на бетон и асфальт, а не на технологии, науку и инновации.
Если государство действительно хочет сменить экономическую парадигму, как заявляет вице-премьер, то вкладываться нужно не в очередные стройки, а в то, что создаёт реальную добавленную стоимость: в технологии, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, оборудование и промышленное производство. Пока же, судя по текущим планам, Казахстан снова идёт по старому пути – занимать, строить, осваивать, но не производить.
– Премьер-министр часто повторяет, что правительство проводит налоговую реформу для финансирования социальных расходов, составляющих львиную долю бюджетных расходов. Обеспечит ли рост налоговой базы решение этой проблемы?
– Я внимательно изучил государственный бюджет и не понимаю, откуда взялась цифра 98% социальных расходов, о которой говорит вице-премьер. Если суммировать реальные траты на здравоохранение, образование и социальную защиту, получается около 7 трлн тенге – то есть примерно 30% от общего объёма расходов бюджета, который в прошлом году составил 27 трлн тенге. Кроме того, если посмотреть на структуру расходов, становится очевидно: значительная часть бюджета уходит не на социальные нужды, а на обслуживание долгов. В прошлом году выплаты по государственному долгу были сопоставимы с социальными статьями. Так что говорить о «социальном характере» бюджета – это, скорее, политический приём, чем экономический факт.
– Хорошо, но даже если доля социальных расходов составляет 30%, разве повышение налогов поможет сохранить её?
– Фактически правительство уже пошло этим путём. С начала года были повышены индивидуальный подоходный налог и социальные отчисления, благодаря чему бюджет получил дополнительно около 1 трлн тенге. Но этот триллион появился не из-за роста производительности или прибыли предприятий, а просто за счёт увеличения налоговой нагрузки.
Повышать налоги в ситуации, когда у бизнеса тяжёлое финансовое положение, – крайне рискованно. По данным Бюро национальной статистики, каждое третье предприятие в прошлом году испытывало проблемы с ликвидностью и доходами. В таких условиях повышение налогов – это не стимул для развития, а путь в тень. Когда бизнес не может обслуживать «фискальные аппетиты» государства, он начинает дробиться, скрывать доходы и уходить на упрощённые схемы.
Кроме того, недавно был опубликован список видов деятельности, исключённых из специальных налоговых режимов, по которым малые предприятия могли платить 3% или иметь вычет в 10%. Теперь многие из них вынуждены переходить на общий режим налогообложения – платить корпоративный подоходный налог (КПН), НДС и другие сборы. В итоге налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса вырастает в 3–5 раз, если не применять сложные схемы оптимизации.
Именно на малый и средний бизнес правительство делает ставку в плане будущего экономического роста. Но в реальности, повышая налоги, оно подрезает этот рост на корню. Да, в краткосрочной перспективе бюджет получит дополнительные доходы. Но в долгосрочной – это удар по предпринимательству, занятости и внутреннему потреблению, которые и без того находятся в стагнации.
Повышение налогов – не решение, а временная мера, создающая иллюзию наполнения бюджета. Реальный же рост возможен только тогда, когда развивается бизнес, растёт производительность и увеличивается число рабочих мест, а не когда экономика держится на всё более тяжёлом налоговом бремени.
– Жумангарин также заявил, что ослабление тенге к рублю и доллару выгодно для Казахстана – якобы это помогает экспортёрам и благоприятно сказывается на бюджете. Действительно ли это так?
– Если рассуждать логически, то такая позиция вызывает большие сомнения. Давайте посмотрим на структуру внешней торговли Казахстана: Россия – крупнейший источник импорта, на неё приходится около 31% всех завозимых товаров. Это значит, что любое укрепление рубля по отношению к тенге автоматически ведёт к росту цен на всё, что мы покупаем из России – продукты, бытовую химию, стройматериалы, лекарства и многое другое.
Когда курс рубля растёт, все эти товары дорожают, и рост цен мгновенно отражается на наших прилавках. То есть ослабление тенге не снижает, а разгоняет инфляцию – прямо бьёт по кошелькам домохозяйств. Именно поэтому утверждение о его «выгоде» для экономики – как минимум спорно. Что касается экспортёров, то и здесь картина не столь радужная. Доля казахстанского экспорта в Россию снижается: в прошлом году она упала с 13% до 12%. Это значит, что наши товары теряют конкурентоспособность на российском рынке.
К тому же, если посмотреть на реальные примеры, то казахстанская готовая продукция в российских магазинах почти не представлена – об этом регулярно говорят и сами предприниматели.
Да, возможно, ослабление тенге действительно выгодно некоторым сырьевым экспортёрам или отдельным производителям – например, поставщикам металлов, зерна или шоколада. Но в целом для экономики такая ситуация – убытки, а не выгода.
Это означает дополнительную инфляцию, рост издержек для бизнеса, падение покупательной способности населения. Поэтому ослабление тенге, вопреки заявлениям, не является позитивным фактором. Для большинства граждан и компаний оно оборачивается ростом цен и снижением реальных доходов, а для бюджета – временным эффектом, достигаемым за счёт удорожания импортируемых товаров, но не за счёт реального экономического роста.
– Вы упомянули рост внешнего долга. Сейчас он составляет чуть более 22% от ВВП, и власти уверяют, что это безопасный уровень – ведь активы Нацфонда в четыре раза превышают объём внешнего долга. Действительно ли нам нечего бояться?
– Формально, если смотреть только на внешний долг правительства, он действительно составляет около 18 миллиардов долларов на начало этого года. Но в действительности важно учитывать совокупный долг – не только правительственный, но и долг квазигосударственного сектора, то есть национальных компаний и холдингов. Если сложить всё вместе, то общая сумма долговых обязательств Казахстана достигает примерно 33 миллиардов долларов. И вот в этом контексте арифметика уже не выглядит такой утешительной.
Да, активы Нацфонда действительно больше – примерно в два раза, но не в четыре, как утверждает правительство. И главное – вопрос даже не в объёме заимствований, а в том, куда эти деньги направляются.
В прошлом году государство заняло около 7 трлн тенге, и при этом 5,6 трлн тенге было потрачено на обслуживание уже существующего долга. То есть значительная часть новых заимствований ушла не на развитие, а просто на погашение старых обязательств.
Если бы мы точно знали, что привлечённые средства идут в прибыльные и эффективные проекты – в инфраструктуру, производство, технологии, оборудование, – тогда можно было бы говорить, что долг управляем и оправдан. Но сейчас этого понимания нет. Мы не видим прозрачности, не знаем, какие именно проекты финансируются и какую отдачу они приносят.
В результате складывается ситуация, когда страна постоянно берёт новые кредиты, но реального экономического эффекта не видно. Это уже не «инвестиции в будущее», а финансирование текущих расходов и обслуживание старых долгов. Такой долг нельзя считать качественным или безопасным. Он становится рискованным, потому что накапливается без ясной стратегии возврата и без понимания, где будет взят ресурс для его обслуживания в будущем. Через 5–7 лет, когда придёт новое правительство, именно ему придётся расплачиваться по обязательствам, которые сегодня создают нынешние чиновники. Поэтому говорить о том, что «нам нечего бояться», – преждевременно.
Госдолг Казахстана пока не критичен по цифрам, но его структура, темпы роста и неэффективное использование заимствований делают его всё более опасным фактором для финансовой стабильности страны.
– Жумангарин утверждает, что регионы получили больше налоговых полномочий, и это должно повысить их финансовую самостоятельность. Действительно ли это так?
– Формально – да, фактически – нет. Регионы действительно получили часть налогов, в частности корпоративный подоходный налог (КПН) от малого и среднего бизнеса, а также индивидуальный подоходный налог (ИПН) – доходы физических лиц, которые теперь остаются на местах.
На первый взгляд это выглядит как шаг к фискальной децентрализации. Однако ключевые налоговые источники по-прежнему остаются в центре. Регионы не получили доступ к таким крупным и системообразующим налогам, как НДС, КПН с крупного бизнеса, экспортные пошлины, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). А ведь именно эти статьи составляют основную долю всех налоговых поступлений страны. Поэтому в реальности финансовая ситуация регионов остаётся крайне сложной.
По данным ВАП, в среднем регионы обеспечивают себя собственными доходами только на 40–50%. Некоторые области – особенно такие, как Жетысу и Туркестан, – обеспечивают себя лишь на 20–30%. Это означает, что половина и более их бюджетов формируется за счёт трансфертов из центра. Таким образом, говорить о реальной самостоятельности регионов не приходится. Фискальная децентрализация на бумаге есть, но по факту – это косметическая мера.
Регионы остаются зависимыми от центра, а значит – не могут самостоятельно развивать экономику, решать инфраструктурные проблемы или поддерживать бизнес. К тому же, проблемы низкой покупательной способности, слабого малого и среднего бизнеса и высокой закредитованности населения напрямую отражаются и на региональных бюджетах. Люди тратят не заработанные деньги, а кредиты, бизнес не растёт, а значит, налоговая база в регионах остаётся крайне узкой. Финансовое самочувствие регионов отражает экономическое самочувствие и то, к какой экономической модели мы пришли.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.



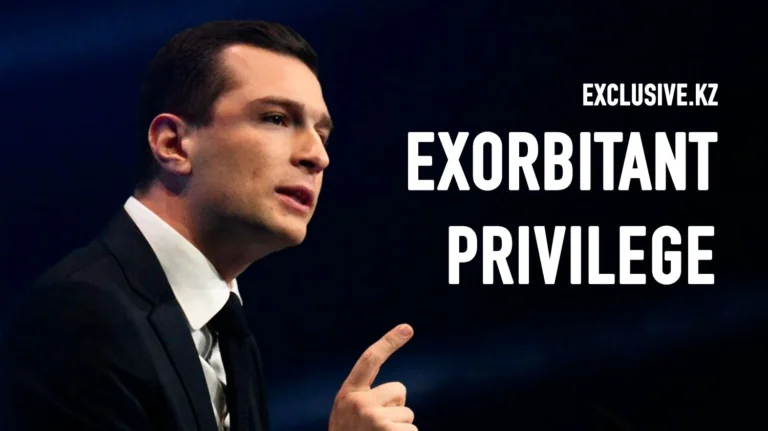

< 60%:
Обычно считается безопасным уровнем для развитых стран.
< 100%:
Обычно считается безопасным уровнем для развивающихся стран.
———
Зачем посыпать голову пеплом? Беспределу времён Назарбаева приходит конец, когда он сам немерено воровал и другим позволял платить символические налоги. Ведь многие стараются работать мимо кассы. А бесплатные садики давай, школы, дороги, пособия давай. Помню ехали с одним армянином, который возмущался бардаком здесь, и тут же выкинул пустую коробку от сигарет в окно авто.
С себя надо начинать: платить налоги, не мусорить, а потом спрашивать с государства. И да, прежде,чем повышать цены, проверьте свои накладные расходы. НОТ никто не отменял. Например, очень много лишних людей работают в компаниях. Все хотят зарплаты как на Западе, а работать и быть ответственным как на Западе не хотят.