Смогут ли казахи деколонизировать свое сознание?
Тема казахского языка и возвращения к родным истокам продолжает оставаться одной из самых актуальных в нашем обществе.
– Когда жизнь идет к закату, душа становится нежнее и избирательнее. Она сейчас поддерживается поэзией Абая, Магжана Жумабаева, Мукагали Макатаева, и, конечно, прозой Мухтара Ауэзова, – признался Мурат Ауэзов, рассказывая о том, какой путь прошел он сам, возвращаясь к истокам родного языка.
Востоковед-китаист, выпускник Московского университета уверен, что это не казахский язык уходил и приходил, а мы сами, побывав в инобытии и даже набравшись там какого-то опыта, теперь возвращаемся в родную стихию.
– Это, конечно, очень индивидуально, но кое-что я все-таки мог бы рекомендовать родителям, – говорит Мурат Мухтарович. – Надо, например, стараться сделать так, чтобы ребенок с младенческого возраста слышал родную речь. У моей мамы, татарки Фатимы, наряду с родным языком был изумительный казахский, она не просто владела им – писала стихи на этом языке. Обладая немалой душевной отвагой, эта красивая, полная чувства собственного достоинства женщина вдохновлялась творчеством запрещенного Магжана Жумабаева, читала Габдуллу Тукая, любя при этом всей душой отца своих старших детей, поэта Ильяса Джансугурова, который посвятил ей целый цикл стихов.
Но засеваемые мамой зерна не взошли бы, если бы не добротный замес, сделанный отцом. Маминой тете, бабушке Хуппижамал, всю свою жизнь посвятившей детям любимой племянницы, Мухтар Ауэзов тоже наказывал отслеживать мой казахский. И она свято исполняла возложенный на нее долг: находясь рядом со мной, Хуппижамал и слова не вымолвила по-русски. И если хотелось чего-нибудь вкусненького, ее, замечательную кулинарку, надо было просить только по казахски, иначе она просто «не слышала».
Вопрос, в какую школу пойдет Мурат, обсуждался родителями очень серьезно. Оба они пришли к мнению – сын казахского писателя должен обучаться только на родном языке.
– Первого сентября отец повел меня за руку в одну из двух в Алма-Ате казахских (одна – для мальчиков, другая – для девочек) школ, – вспоминает Мурат Мухтарович. – Детей интеллигенции или чиновников там практически не было, здесь учились «интернатские» – дети из аулов. Общаясь с ними, я буквально окунулся в стихию родного языка. Но через три года выяснилось, что дети друзей отца, которые пошли в русскую школу, как сейчас бы сказали, гораздо продвинутее меня. Это и понятно: казахская школа в те годы была загнана в угол, она даже не выживала, а влачила существование. И Мухтар Омарханович, еще раз посоветовавшись с моей мамой, все-таки решил перевести меня в русскую школу. К этому шагу он тоже подошел очень серьезно и ответственно: обучаясь в казахской школе, я одновременно занимался с двумя преподавателями русским и английским языками. Здесь Мухтар Ауэзов, представитель просвещенного рода кожа, пришедшего некогда в Казахстан с миссионерской функцией, следовал принципу – от отца к сыну: сколько бы ни было в семье детей, одному из них уделялось особое внимание, то есть прилагались громадные усилия, чтобы дать ему хорошее образование. И отец, осуществляя эту традицию в отношении меня, достаточно жестко контролировал этот процесс.
В 4-й класс русской школы я пришел подготовленным. В пятом классе уже писал без ошибок, и в общем, формальную (не душевную) сторону русского языка усвоил хорошо. Этому помогло и то, что в нашей семье очень много читали. Правда, делали это в основном на русском языке. Поэтому отец в письмах к нашей маме из Москвы (он там часто бывал, а однажды, спасаясь от репрессий, вынужден был даже спешно бежать туда) не уставал повторять, что я должен знать казахский язык. «Пусть «Абай жолы» – «Путь Абая» – прочтет тебе вслух», – писал он маме. До сих пор перед глазами стоит такая картина. Мама вяжет, а на низенькой скамеечке, у ее ног, сижу я и читаю вслух. Так, не понимая еще многого – не языка, а описываемых обстоятельств, отношений между людьми – прочитал ей всю отцовскую эпопею. Понимание, что только так можно прочно отладить речевой аппарат для артикуляции звуков родного языка, придет гораздо позже, а тогда душа рвалась на улицу, к играм, в привычную русскоязычную среду.
В 10-м классе отец повез меня с младшим братом Ернаром в Москву, чтобы показать Московский университет и заодно помочь определиться с будущей профессией. Предполагалось, что я буду химиком. Тогда это было модно: действовал призыв Хрущева «Коммунизм – это химизация плюс электрификация всей страны». В Москве во мне сработала какая-то интуиция: побывав на Ленинских горах, где в основном располагались естественные факультеты, я почувствовал, что мне близки литература и история. Вернувшись домой, стал готовиться к серьезному разговору с отцом. Думал, он будет сердиться, ведь были уже договоренности с разными людьми, что они будут опекать будущего химика. Я пару раз видел его в гневе – он темнел лицом, а тут все было наоборот – отец словно посветлел: он был рад, что я сделал самостоятельный выбор.
Теперь надо было определиться с факультетом и специальностью. В тот год при МГУ открылся Институт восточных языков. Отец сразу заявил: нужно идти на арабский. Сейчас я понимаю – почему. В нем заговорили гены. Он так и писал в своих письмах: «наши предки из знойных Аравийских пустынь». Но туда принимали только тех, у кого был начальный английский, а я в школе учил немецкий. И тогда отец предложил идти на китайский – на котором написано много документов об истории казахов. Это был великолепный воспитательный момент. Я ни разу в жизни не пожалел о выбранной профессии, но тогда, честно говоря, хотелось понравиться отцу. Когда он «забрасывал» такие вещи, я чувствовал, что ему будет приятно, если с юности начну думать о судьбе своего народа. В принципе, основы неформального патриотического движения «Жас тулпар», серьезно боровшегося за независимость, заложены там, в далекой юности, благодаря системному воспитанию, полученному от отца.
Я поступил в МГУ в 1959 году, а отец скончался в 1961 году. После его смерти бригада жастулпаровцев поехала в Жамбылскую область, а еще через год – в Целинный край, где одна за другой закрывались казахские школы и газеты. Засучив рукава, КПСС взялась тогда за создание новой исторической общности под названием «советский народ», где доминировали бы русский язык и культура. Именно тогда у нас, студентов московских вузов, и взбунтовалось национальное «я». Но при этом мы осознавали, что жить надо не по родоплеменному архаичному принципу, отрекшись от мировых культурных ценностей, а как частица народа. Язык же – это мост, который соединяет тебя с ним. Вернувшись в Москву, мы договорились, что будем разговаривать между собой только на родном языке, кто скажет слово на русском, наказывался штрафом в пять копеек. Стали выписывать журнал «Бiлiм және еңбек».
Моя мама Фатима Габитова, узнав о «Жас тулпаре», сказала, что я должен знать запрещенную повесть отца «Қилы заман» – «Лихая година» – о восстании казахов 1916 года. И мы с ней пошли в Пушкинскую библиотеку. Выносить книгу оттуда было нельзя, и она три дня читала мне написанную арабской графикой повесть, которую Чингиз Айтматов оценил впоследствии как самое сильное произведение мировой антиколониальной литературы. Через некоторое время после этого я получил толстенное письмо от мамы – к нему были приложены составленные ею сто казахских пословиц и поговорок. Она их сопроводила словами «Изучая китайский, не забывай родной язык». Чудно подобранные к самым разным ситуациям, они были выверены ее собственной трагической судьбой, где было немало гонений. Когда стал подрастать мой собственный сын, я подарил эту самодельную книжицу ему.
Суммируя вышесказанное, хочу сказать: родной язык не придет на место того языка, которым ты владеешь. Нередко казахи, неважно владеющие родным языком, прибегают к уловке, говоря: «Здесь есть люди, которые не владеют казахским, поэтому я буду говорить по-русски». Так вот, я противник такого «говорить по-русски». Нужно говорить на языке, в данном случае – на русском. Говорить по-русски – значит, ты русский, но если ты говоришь на русском, то, следовательно, ты используешь его как инструмент общения и чем разнообразнее этот инструмент, тем лучше. Мы должны воспринимать то, что написано на русском языке, не становясь при этом русскими. Зерна от плевел в этом случае можно отличить, только будучи национальным человеком. Но стать им ты не сможешь, не погрузившись в стихию родного языка. В этом и вся суть.
Сейчас для нас вопрос вопросов – пройти процесс деколонизации сознания. У нас в головах очень много рухляди, оставшейся со времен тоталитарного управления сознанием и жизнью личности, в том числе – осколочность родного языка. То, что язык закладывается с колыбели, можно увидеть на примере русскоязычных писателей. Творчество и Ануара Алимжанова, и Сатимжана Санбаева, и Олжаса Сулейменова замечательно, они – классные писатели…. Но поверьте, глубинные, материнские пласты русского языка не работают, когда нужно рассказать о странствиях твоей казахской души. И получается некая зомбированность текста даже у очень талантливого писателя.
Родная речь – это густой замес, состоящий из наследия предков, из первых шагов детей и внуков. Через нее открывается национальная музыка и орнамент. Поэтому я и говорю, что мой отец был прозорливым прагматиком. Настаивая, чтобы я знал, казалось бы, уходящий в небытие родной язык, он предвидел, что наступит время, когда будет неприличным не владеть им.

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы  Асар в Украине
Асар в Украине 

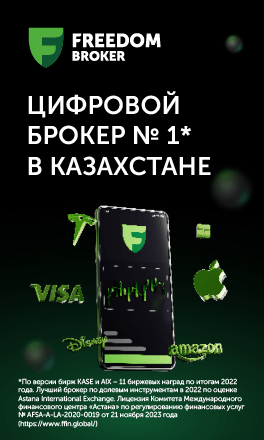
Комментариев пока нет