Социальные сети – выпуск пара или потенциал политической мобилизации?
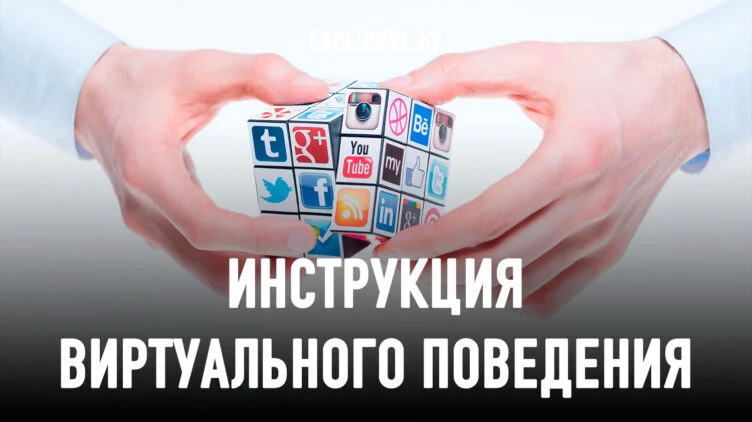
Кажется, Билл Гейтс сказал: «если вас нет в интернете, то вас нет нигде». Чтобы «быть», люди пошли в социальные сети. Именно отсюда – феномен взрывного развития социальных сетей. Причем значение соцсетей быстро вышло за рамки общения внутри сетевых сообществ.
Действительно, эру интернета точнее всего раскрывает термин «медиатизация». Под ней понимается социальный процесс, в ходе которого общество становится почти тождественным медиа. Ни явления, ни люди не могут более существовать отдельно от сферы массовой коммуникации.
Эта смена модели коммуникации обусловлена возможностями цифровых технологий Web 2.0 и потерей монополии традиционных институтов – государства и СМИ – на формирование повестки дня. Все увидели, что соцсети обладают потенциалом политической мобилизации. Это показала «арабская весна», белорусские протесты, сгенерированные в сетевых пабликах и выведшие молодежь на улицу, победа Трампа на выборах. Мимо всевидящего ока государства это не прошло: российские власти, например, ввели уголовные наказания за антивоенные посты.
Социальные сети постоянно расширяют свой функциональный арсенал. Их мощь испытала даже Уолл-стрит. В 2021 году на платформе Reddit скоординированные действия инвесторов-индивидуалов сумели разогнать цену акции компании Gamestop почти на 900 %, вынудив крупные финансовые институты, игравшие на понижение, потерять около 5 миллиардов долларов. Интересно, что собственно финансовые показатели этой компании, не имевшие объективных предпосылок к росту, попросту не учитывались.

Преимущество технологий Web 2.0
Этим преимуществом является интерактивность – наличие оперативной и открытой обратной связи с аудиторией. Аудитория перестала быть лишь потребителем информации, ставь помимо этого и создателем контента за счет репостов и комментирования.
Этот фактор имеет ключевое значение для взаимодействия власти и общества и теперь внимательно учитывается при проведении государственной информационной политики. При этом важно понимать, что обратная связь, получаемая при помощи социальных медиа, существенно отличается от традиционных каналов коммуникации, для которых характерны высокий уровень персонификации и личной ответственности.
Природа социальных медиа такова, что в их контенте стерты границы времени, места, социально-экономического статуса, благодаря чему стала ярче проявляться сиюминутная реакция аудитории. Это обстоятельство делает социальные сети отражением общественных настроений, весьма удобным инструментом для изучения общественного мнения по тем или иным поводам.
Современная медиасистема сегодня состоит из традиционных медиа, контента веб-сайтов и гражданских медиа на онлайн-платформах, включая социальные сети. Они, с одной стороны, конкурируют друг с другом, а с другой – активно перенимают функции друг друга.
При этом исследователи заметили, что востребованность новых медиа обратно пропорциональна популярности традиционных СМИ. Между ними произошло своеобразное «разделение труда». Газеты и телевидение ориентированы на освещение официальных событий, в то время как соцсети транслируют альтернативную политическую или социальную повестку.
Традиционные СМИ тоже перестроились. Они стали использовать соцсети как источник информации и информационных поводов. Профессиональные субъекты медиарынка давно отбросили высокомерие и стали открывать аккаунты в социальных сетях. Однако это не всегда означает их эффективную адаптацию к цифровым платформам, поскольку часто классические редакционные стратегии механически переносятся в цифровую практику.
Большое различие существует в качестве контента. Традиционные СМИ выигрывают уровнем дискуссий, создавая качественный публицистический и аналитический продукт. Однако, в отличие от новых медиа, они ограничены в критике зависимостью от органов власти и бизнеса. В соцсетях меньше запроса на дискуссию и компетентную политическую критику, даже крупные «паблики» пока плохо умеют работать со смыслами и сложными проектами. Но вывод бесспорен: и те, и другие сегодня являются равноправными участниками медиакоммуникационной деятельности.
Рецепт Обамы
В 2009 президент США Барак Обама подписал «Меморандум об информационной прозрачности и открытом правительстве». С этого момента понятие Open Government – Открытое правительство вошло в широкий обиход. Его основные принципы:
прозрачность– требование к государственным органам раскрывать информацию о принятых ими решениях в тех формах, к которым общественность имеет быстрый и легкий доступ.
участие обеспечивает причастность общественности к деятельности правительства. Эта функция повышает эффективность работы правительства и улучшает качество его решений,
взаимодействие требует партнерства и сотрудничества между правительственными учреждениями и некоммерческими организациями, предприятиями и отдельными лицами для повышения эффективности государственного управления.
Для достижения принципов открытого правительства платформы Web 2.0 становятся эффективной площадкой, поскольку помогают выстраивать новую, более равноправную модель отношений гражданина и государства, помогая государственному аппарату работать как подконтрольный обществу механизм по предоставлению им сервисов и услуг. Соцсети дали государственным учреждениям новые каналы коммуникации для различных целей, одна из которых – преодоление барьеров для общения, часто встречающихся в государственном секторе.
Для того, чтобы госорганы пользовались социальными медиа эффективно, аккаунты в соцсетях нужно поддерживать, взаимодействуя с аудиторией постоянно и активно, с максимальной открытостью. Нулевая интеракция со стороны администраторов групп ведет к негативным комментариям, теряется смысл входа в социальные сети, где происходит многосторонняя коммуникация;
Во-вторых, обеспечивать публикацию релевантного контента для каждой социальной сети. Однотипные публикации в разных социальных сетях не могут удовлетворить потребности разных аудиторий, приводят к массовой отписке от аккаунта.
В-третьих, разнообразие способов вовлечения пользователей, включая создание нативных историй, виральных видеороликов, качественных визуальных материалов. Наименьшую вовлеченность вызывают публикации бюрократического характера типа пресс-релизов и сухой инфографики.
И наконец – способность первым формировать информационную повестку. Это важно, чтобы противостоять «фейковым» новостям, выкладываемым в сеть ненамеренно или сознательно, транслировать в стихийный информационный поток аргументированные трактовки и объективные данные, стимулировать предметное обсуждение острых социальных проблем. Серьезный и уважительный подход к оппонентам снижает риски офлайновых протестов.
А если не досуг?
На самом деле активность людей в цифровых платформах вовсе не означает их высокую вовлеченность в политику. Социальные сети служат скорее для политического выхлопа, слива негатива и разрядки, выполняют роль «советской кухни».
Конечно, немало случаев, когда локальные проблемные инциденты становились в социальных сетях одним из механизмов мобилизации протеста. Но исследователи прежде всего отмечают стихийность протестных проектов, ориентацию на локальную повестку, что означает отсутствие серьезного протестного потенциала у подписчиков соцсетей. Именно поэтому государству важно развивать коллаборационные практики в социальных медиа, а не отдавать эту сферу на откуп силовым органам. Участие последних может быть оправданным только в тех случаях, когда мобилизационные протестные стратегии проявляют себя явно. Их признаки выявить нетрудно, особенно если они последовательно реализуются сознательно действующими агентами по следующей логике:
– фокусировка на конкретном инциденте и его гиперболизация, перевод частного случая в явление общего порядка,
– поддержание и эскалация напряженности,
– направление негативной энергии на государственные институты и конкретных лиц,
– возведение мелких поводов к ценностям и высшим потребностям,
– эмоциональное воздействие на участников сетевых дискуссий и прямые призывы к действию,
– стремление к переводу протестных активностей в офлайн.
Возьмем свежие примеры. Ничего из перечисленного, никаких инструкций, директив и воззваний не было в обывательских постах карагандинки Алики Мухамадиевой, которую задержали правоохранительные органы. Но зато многие из этих признаков присутствовали в сетевых высказываниях тех людей, которые обрушились на нее с критикой. И кто же на самом деле сеял рознь?
Едва ли был мобилизационный настрой в речевом репертуаре историка-ютубера Айбека Абдрахманова, которого также привлекли за «межнациональную рознь». Поэтому всегда тревожно, когда силовые органы со своими методами вторгаются в сферу свободы слова, борьбы идей и концепций, исторических дискуссий. Поэтому хранителям закона важно системно овладеть специальными навыками для выявления мобилизационных протестных стратегий и их агентов в социальных сетях, а не обрушивать карающую десницу на в целом безобидных авторов.
Персоны и мемы
Сегодня большинство медийных персон заводят аккаунты в соцсетях и таким образом упрощают доступ журналистов к ним. Их активность в Twitter либо в Instagram делает посредничество профессиональных медиа почти ненужным для обеспечения обратной связи между властью и аудиторией. При этом сами персоны, институты и компании превращаются в своего рода медиа. Как однажды сказал Президент К.Токаев, его твит-аккаунт является «личным телеграфным агентством».
Данная практика актуализирует тему меметического контента. В новых медиа интернет-мемы активно используются в целях конструирования образов власти. Главная особенность мемов – потенциал их вирусного распространения, они сразу попадают в поле зрения аудитории. Наибольшее воздействие оказывают негативные, агрессивные политические интернет-мемы, преследующие цель подпортить имидж объекта.
Виртуальный образ представителя власти, как правило, основан на спонтанных ассоциациях, связывающих их с экономическими и социальными проблемами. Любое их неудачное публичное выступление (вспомним «патамушта») вызывает в сети злые шутки и сводит на нет усилия PR-специалистов. Производители политических мемов легко могут дезавуировать образ в глазах сетевой аудитории. Поэтому имиджмейкерам следует вдумчиво и серьезно работать с мемосферой.
Казахстанцы являются активными потребителями новостей через новые медиаресурсы. При этом они отдают предпочтение коротким текстам, что означает некритическое восприятие информации. Выявлено, что многие жители страны «всеядны» в информационном отношении. Респонденты не особо верят, что новости отражают реальные факты и поэтому мало заботятся о достоверности новостей. Это открывает дверь для манипуляций и фейков, что сужает возможности для коррекции восприятия.





Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.