О гениальности
Как девальвировано, как опошлено понятие «гениальность»! Как легко им бросаются! Гений—это ведь непостижимое, редчайшее состояние, внезапное вдохновение откуда-то свыше снисходящее на человека, поглощающее все душевные его силы, интеллект, прозрение, настигающее вдруг…
Гоголь (в Италии):
Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Джансано и Альбано, в июле месяце. Среди дороги, на бугре, стоит жалкий трактир с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие непременно тут останавливаются особенно в жар. Остановился и я. В то время писал первый том Мертвых Душ, и эта тетрадка со мной не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик. Уселся в угол. Достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким воодушевлением.
Менделеев в течение двадцати лет осмысливал, пытался структурировать периодическую закономерность химических элементов и вдруг, в момент, его озарило и возникла Периодическая таблица. Ньютон долго приближался к Закону всемирного тяготения и вдруг осенило его во время прогулки, в редкие для него минуты, свободные от академической и административной загруженности в Кембриджском университете. Подобрал упавшее яблоко и… эврика!
Вспомнил одно место из «Жизнь и Судьба» Василия Гроссмана. Физик-теоретик Штрум зашел в тупик в разрешении ключевой проблемы в разрабатываемой им теории. Мучился. Однажды вечером, за чаем в доме его коллеги собрались несколько уцелевших в репрессиях интеллектуалов. Неожиданно, слишком откровенно для того времени, разговорились, коснувшись запретных тем. Это во время войны. Выйдя из дома после застолья Штрум с тревогой подумал, не «настучит» ли кто-либо из участников этого опасного разговора? А потом решил: а черт с ним, хоть поговорили по-человечески, без страха и лицемерия. И дальше поразительно емкое по смыслу проникновение Гроссмана:
Он шел по темной пустынной улице. Внезапная мысль возникла вдруг. И он сразу, не сомневаясь, понял, почувствовал, что мысль эта верна. Он увидел новое, невероятно новое объяснение тех ядерных явлений, которые, казалось, не имели объяснения, вдруг пропасти стали мостами. Какая простота, какой свет! Эта мысль была изумительно мила, хороша, казалось, не он породил её, она поднялась просто, легко, как белый водяной цветок из спокойной тьмы озера, и он ахнул, осчастливленный её красотой… И странная случайность, вдруг подумал он, пришла она к нему, когда ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда лишь горькаясвобода определяла его слова и слова его собеседников.
Мысль Гроссмана, как я её понимаю, такова: внезапный импульс был дан редчайшим для человека, пережившего «37- ые», ощущением раскованности, свободы. Свобода, свобода самовыражения… и творчество — вот в чем идея.
Еще о Менделееве: среди его работ 1880-х годов немало посвящено нефти, её переработке и транспортировке: «Нефтяные промыслы в Пенсильвании и на Кавказе», «Где строить нефтяные заводы», «Мнение о Баку-Батумском нефтепроводе». Его знаменитая фраза: «топить нефтью—все равно, что топить ассигнациями.
Психиатры и нейробиологи давно бьются над объяснением феномена гениальности. Есть множество теорий на этот счет. Одна из наиболее распространенных, особенно после публикации где-то в шестидесятых-семидесятых годах позапрошлого века ставшей классической книги Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство», привязывает чрезвычайную креативность к аномальной психике, более того,—к психическим заболеваниям, в ряде случаев, ведущих к самоубийствам ( Ван Гог, Хемингуэй, Вирджиния Вулф…). Отклонения от устойчивой психики и креативность — это такая старая тема! Образ безумного гения стар, как мир. Он встречается и в пьесах Шекспира («Сон в летнюю ночь», например). Другая, тоже убедительная и распространенная теория: генетика, наследственность. Обе эти теории легко воспринимаются. Но вот ни одна из них не объясняет феномен Менделеева или Ньютона. Оба были психически вполне уравновешенными людьми и родители обоих абсолютно ничем не выделялись ни по какой линии.
Используя постоянно обновляющиеся методы и технологиии, исследователи функций участков мозга продвигаются все дальше в поисках генератора «креативности». Но, судя по публикациям, доступным пониманию далекого от этой сферы индивидуума, по сей день сохраняется непостижимость явления «гения». И велико искушение прийти к выводу о его метафизической природе, о его «божественном», в смысле не подвластном ни разуму, ни воображению человека происхождении.
Дмитрий Иванович Менделеев был довольно-таки суровый, сдержанный, резковатый по характеру человек. И вот, представьте себе, в 47 лет он, уже прославленный ученый, отец семейства, самозабвенно влюбляется в двадцатилетнюю Анну Попову. Да как!
Мы с Дмитрием Ивановичем были одни. Желая что-то спросить, я взглянула на него и окаменела—он сидел, закрыв рукой глаза, и плакал … Видя мою растерянность: «Простите, я вас смущать не должен.» Он вышел. … Дмитрий Иванович в то время писал каждый день мне письма, но не передавал их, а откладывал в особый ящик … Он продолжал их писать, когда я уже уехала ( у Анны Поповой был жених—Б.Р.) … Дмитрий Иванович продолжал писать и откладывать письма. Он хранил эти письма, как драгоценность. Письма он завещал мне тогда, когда еще не надеялся стать моим мужем. Я их читала уже став его женой. Великая душа, могучий поток прорвавшегося чувства нашли выражение в этих письмах в сильной и оригинальной форме. … Ни в одном письме не было определенной надежды на брак. Но все были проникнуты чувством обожания безнадежного, стихийного…
Я процитировал это место из воспоминаний второй жены Менделеева Анны Ивановны, потому что оно, во-первых, так не вяжется с привычным образом Менделеева; во-вторых, поражает сам по себе факт: погруженный в напряженную интеллектуальную работу гений пишет возлюбленной письма, полные такого поклонения, какое разве что Петрарка выразил за шесть веков до него в своих сонетах о любви. В-третьих, тогда подобное проявление чувства к женщине, воспетое зятем Менделеева Александром Блоком в «Стихах о прекрасной даме», не было чем-то из ряда вон выходящим, а в наши дни—воспринимается, как непонятный, сентиментальный анахронизм.
Современник великого ученого Менделеева великий практик геополитики Отто фон Бисмарк, в те же 47 лет, без памяти влюбился в двадцатидвухлетнюю графиню Екатерину Орлову, жену своего друга, дипломата, просвещеннейшего аристократа и военного героя (в Крымской войне девять ранений, потеря глаза) графа Николая Орлова. Да и Кетти Орлова (в девичестве Трубецкая) была не только хороша собой, но и незаурядно образована, умна и… чрезвычайно женственна. Какие потрясающе нежные письма писал Кетти Орловой «железный канцлер»!
И в те же 47 лет, современник и Менделеева, и Бисмарка, великий поэт Федор Иванович Тютчев без памяти влюбляется в подругу своих дочерей, двадцатичетырехлетнюю Елену Денисьеву, которая становится его гражданской женой. Елена Денисьева была последняя, вобщем-то трагическая, любовь Тютчева. Очень здорово об этом у Эренбурга (он ведь был и поэт):
Его последняя любовь
Была единственной, быть может.
Уже скудела в жилах кровь
И день положенный был прожит,
Впервые он узнал разор,
И нежность оказалась внове…
И самый важный разговор
Вдруг оборвался на полслове.
А вот, кстати, у Давида Самойлова о нежности:
Жалость нежная пронзительней любви.
Состраданье в ней преобладает.
В лад другой душе душа страдает.
Себялюбье сходит с колеи.
Страсти, что недавно бушевали
И стремились все снести вокруг,
Утихают, возвышаясь вдруг
До самоотверженной печали.
«Денисьевский цикл» Тютчева оказал огромное влияние на русскую лирическую поэзию. Как перекликаются Тютчев:
Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело…
Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени,-
И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.
и Пастернак в «Докторе Живаго»:
С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Её отъезд был—как побег.
Везде следы разгрома.
Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.
Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Легли на дно его души
Её черты и формы.
Но я увлекся. Возвращаясь к трем, столь разным, гениям, невольно возникает мысль: «47» — не роковой ли это возраст для некоторых творчески одаренных мужчин. Чушь, конечно, просто совпадения. А все же, может что-то в этом есть?..
Эйнштейну было за пятьдесят, когда он влюбился в жену скульптора Сергея Коненкова Маргариту (агент Лубянки «Лукас»), а его пассии за тридцать. На аукционе «Сотбис» были выставлены нежные любовные письма, сонеты этого Мастера его Маргарите. Подстрочник с немецкого: «… ты поднимаешь на меня глаза полные нежности, и я увижу в них отблеск Бога… Но как мне все здесь напоминает о тебе…» и т.п. Как не вяжется эта любовная лирика с растиражированным образом её автора! Их связь продолжалась лет пять-шесть, до 1945-го, когда Коненков с женой вернулись в Москву. Возможно потому, что была выполнена миссия Маргариты, которая была вхожа в круг занятых в Манхэттенском проекте физиков и, как следует из мемуаров Павла Судоплатова, «очаровала ближайшее окружение руководителя проекта Оппенгеймера». Она многих очаровывала, включая Рахманинова, Шаляпина, Врубеля. Видимо, очень привлекательная была женщина.
Но я взял примеры гениев, которых возвышенная любовь настигла в уже солидном возрасте. Тютчев: « О, как на склоне наших лет/ Нежней мы любим и суеверней…/ Сияй,сияй прощальный свет/ Любви последней. Зари вечерней!».
А вот Пушкину 25… Он в ссылке в Михайловском. В Тригорское, соседнее с Михайловским имение Осиповой-Вульф, приезжает её молоденькая, несчастная в браке за старым генералом, племянница Анна Керн. Пушкин, узнав о её приезде, зная от друзей, что она «хорошенькая», приезжает в Тригорское, где он частый гость, и мгновенно влюбляется. Вечером он гуляет с ней в парке, изнемогает от желанья, домогается её, но… она не уступает. У нее в это время начался роман с двоюродным братом Алексеем Вульфом, да и, может быть, маленький, некрасивый Пушкин не вызывает в ней ответной реакции. (Сильно ведь преувеличена в молве и в литературе его сексуальная неотразимость.) Пушкин: «…со мной сделались судороги от бешенства и ревности» ( из его письма, написанного на следующий день). Ни с чем он возвращается в свою комнату и… и пишет:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты. …
Замечательный пример сублимации сексуального перевозбуждения гения в возвышенную, совершеннейшую поэзию.
И совсем другой Пушкин. Долгие годы пушкинисты бились над вопросом, кто та женщина, которую, не раскрывая её имени, он любил всю жизнь, кому он посвятил:
Все тихо. На Кавказ идет ночная мгла.
Мерцают звезды надо мною,
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою.
Усилиями Сергея Бонди и Юрия Тынянова установили, точнее пришли к выводу, что эта законспирированная в его поэзии женщина, предмет его обожания—Екатерина Андреевна Карамзина, и именно ей посвящены эти строки. Пушкин влюбился в неё, когда ему было 17, лицеистом, а ей, жене историка Карамзина—36. Не буду вдаваться в перипетии их отношений. Это особая тема. Екатерина Андреевна была очень хороша собой, интеллигентна, образована— антипод типичных женщин тогдашнего петербургского бомонда. Она стояла особняком над всеми его увлечениями. Он боготворил её буквально до гробовой доски. Её он хотел видеть перед самой смертью. Из её воспоминаний: «… Он сам этого пожелал. Он протянул мне руку, я её пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять протянул мне руку и сказал тихо: «Перекрестите еще.» Я перекрестила и приложила руку к щеке; он её поцеловал и опять махнул.».
Вспомнилось совсем из другой «оперы» (в жанре «поток сознания» странные отвлечения простительны): Рузвельт, умирая, попросил дочь Анну втайне от первой леди пригласить Люси Мерсер, которую любил, тщательно скрываемые отношения с которой длились почти 30 лет, до самой его смерти. Она была с ним, когда он умирал.
Борис Румер, Бостон, США
Окончание следует…
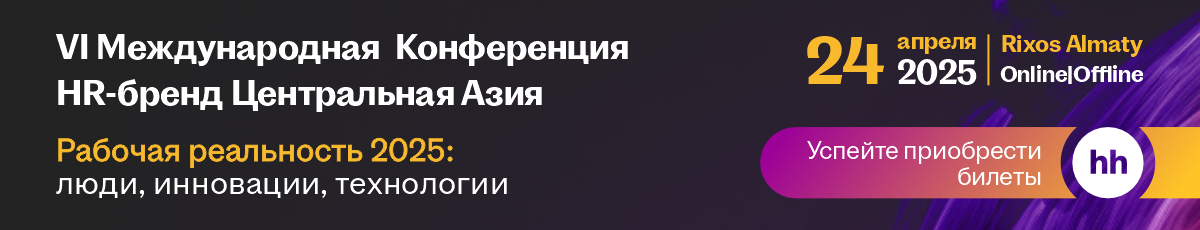

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы  Асар в Украине
Асар в Украине 





Комментариев пока нет