Выведет ли коммунальная реформа население на площади?

Нацпроект по ЖКХ для Казахстана имеет огромное социальное значение в условиях нарастающего напряжения. Государство должно обеспечить базовые вещи – тепло, свет, газ. Тем более, что выделенные на это 13 трлн. тенге будут оплачены из карманов населения. Об этом exclusive.kz поговорил с Асхатом Жапсарбаевым, международным эксперт по тарифам, независимым экспертом Совета по тарифной политике.
– Почему наципроект по ЖКХ особенно важен?
– Потому чтоизнос многих объектов теплоснабжения, водоснабжения, производства и передачи электроэнергии достигает 70–80%, а в некоторых регионах – 90–95%. Необходимо срочно приводить эту инфраструктуру в порядок: промедление может привести к ее полной утрате. А ведь эти услуги жизненно важны для населения. Поэтому цель проекта абсолютно оправданна. Важно, какие именно пути и инструменты будут применяться для ее достижения.
Во-вторых, программа направлена на развитие промышленности, прежде всего в сферах естественных монополий и энергетики. Речь идет о создании казахстанских производителей комплектующих и материалов для сферы ЖКХ. Выделенные на этот нацпроект более 13 трлн тенге должны будут осваиваться отечественными компаниями. В течение пяти лет именно они будут поставлять необходимые материалы для капитальных ремонтов.

В-третьих, ключевая цель – обеспечение населения теплом, водой и электроэнергией. На бумаге мы отчитываемся, что 99% населения обеспечено питьевой водой, однако на практике это далеко не так. Во многих районах до сих пор отсутствует централизованное водоснабжение: жители пользуются колонками или другими временными решениями. Аналогичная ситуация с теплом – не везде есть подключение к централизованным системам или газоснабжению. По электроэнергии также сохраняются перебои и дефицит мощностей в городах, поселках и сельских районах.
Таким образом, речь идет не только о модернизации инфраструктуры, но и о расширении доступа населения к теплу, воде и электричеству. Кроме того, целью программы является проведение капитального ремонта, который позволит на десятилетия закрыть эту проблему. Однако здесь возникает и обратная сторона: что будет с казахстанскими производителями комплектующих после завершения пятилетнего периода активной модернизации? Этот вопрос остается открытым и требует дальнейшего обсуждения.
– Речь идет о 13 триллионах тенге. Это огромная сумма. Зная казахстанскую действительность, возникает вопрос: способна ли экономика эффективно освоить такие средства? Кто и как будет контролировать расходы монополистов на обновление инфраструктуры? Насколько обоснованными оказались повышенные тарифы, результатом которых уже стал рост цен на товары? И главное – насколько монополисты выполняют свои обязательства по инвестированию полученных средств?
-Вы абсолютно правы: в государственном управлении есть три ключевых фактора – стратегический, регуляторный и контрольный. В данном случае стратегическая часть уже реализована: разработан национальный план.
Регуляторная часть закреплена за Комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ), министерством энергетики и министерством промышленности. Эти органы разрабатывают подзаконные и законодательные акты, утверждают правила. Часть таких правил уже принята, часть еще предстоит.
Контрольная часть – не менее важна. Для этого разработаны специальные инструменты. Компании, получающие займы у банков второго уровня или международных финансовых организаций, проходят одобрение в институте «Байтерек», который отвечает за субсидирование. Но ключевое – контроль за использованием этих средств.
Сегодня контроль распределен следующим образом. Финансовый оператор – «Байтерек». Он сопровождает заем, осуществляет финансово-технический контроль, который действует на протяжении всего срока займа – будь то 7, 10 или 15 лет. Контроль независимый и охватывает как возврат основного долга, так и реализацию инвестиционной программы в соответствии с ТЭО и проектно-сметной документацией.
Технический оператор – Центр развития ЖКХ. Он оценивает обоснованность инвестиционных программ. Например, если теплоснабжающей компании в Алматы требуется капитальный ремонт магистрального трубопровода, Центр дает заключение о его необходимости.
После этого документы передаются в «Байтерек», который принимает решение о финансировании и подключает финансово-технический контроль. Таким образом, на весь срок займа закрепляются два вида контроля – технический и финансово-технический.
В результате, например, если Алматинские тепловые сети получают заем, то за реализацией проекта следят и Центр развития ЖКХ, и независимая контрольная группа от «Байтерека».
Наконец, КРЕМ утверждает тарифы для населения. Затраты по займу (основной долг и вознаграждение) включаются в тариф, обычно до 10%. То есть население оплачивает эти расходы. Включение займа в тариф возможно только при наличии заключений Центра ЖКХ и «Байтерека».
Та же схема применяется и в энергетике при производстве электроэнергии на ТЭЦ, ГРЭС или ГЭС. Здесь также требуется одобрение технического и финансового операторов.
Таким образом, контроль за реализацией национального проекта построен на системе двойного надзора – технического и финансово-технического, при обязательном участии регуляторов, утверждающих тарифы.
– То есть, так или иначе, платить за все будет потребитель. Насколько, по вашим оценкам, вырастут тарифы? Продолжится ли рост цен на электроэнергию, воду, тепло на протяжении всего периода реализации нацпроекта? И будут ли они в дальнейшем снижаться, оставаться на том же уровне или продолжат расти?
– Согласно нацплану, повышение прогнозировалось в пределах 15%. Однако практика показывает иное: компании, которые уже привлекли займы, сталкиваются с ростом тарифов на 40–50%. У некоторых прогноз превышает 100%.
Правительственные органы обычно говорят о «среднем тарифе». То есть если одна компания подняла цены на 10%, а другая – на 100%, то средний рост составит 50%. Но в реальности расчет в 15% был сделан поспешно. Такого уровня удержать не удастся. Рост тарифов будет значительным. По моим оценкам, в течение двух лет рост составит по водоснабжению – 70–80%; по теплоснабжению – 60–70%; по передаче электроэнергии – около 50–60%.
Но это усредненные показатели. В разрезе регионов или отдельных городов картина может быть совершенно разной. В некоторых случаях тарифы вырастут более чем на 100% за пять лет.
– Допустим, за пять лет с населения соберут 13 триллионов тенге. Но есть слабое утешение: средства вернутся в экономику благодаря требованию максимальной локализации производства. Но насколько это реально? Откуда у нас вдруг появится столько производителей и отечественных товаропроизводителей в сфере ЖКХ?
– Развитие отечественных производителей в ЖКХ и энергетике – одна из целей национального проекта. Согласно плану, первый год – 40% локализации, второй – 60%, третий – 80%, и к концу – 100% поставок от отечественных производителей. Но здесь сразу возникают вопросы.
Во-первых, кого мы будем считать казахстанским производителем? Это полная локализация, включая сырье, или речь идет лишь о сборке из импортных компонентов? Сейчас эта часть проработана слабо.
Во-вторых, если речь идет о глубокой переработке и полном цикле производства в Казахстане, то необходимо строить заводы. Но заводы – это не проект на пять лет. Серьезные компании ориентируются на 20–30 лет. Чтобы они пришли в Казахстан, нужен долгосрочный горизонт финансирования. Пятилетний срок слишком короткий: только подготовка кадров займет годы.
Кадровый вопрос также остро стоит. У нас нет достаточного числа специалистов, чтобы освоить столь масштабный объем. В нефтяной и горнодобывающей отраслях ситуация решалась привлечением иностранных экспертов, с последующей подготовкой собственных кадров. Вероятно, здесь будет так же.
Кроме того, вопрос заводов. Зарубежные компании, с которыми велись переговоры, прямо заявляют: заводы строить не будут, максимум – цеха по сборке. Это означает, что глубокая локализация не состоится: комплектующие будут ввозиться из-за рубежа, а в Казахстане будет лишь финальная сборка.
Отсюда возникает проблема – критерии «казахстанского производства». Кто будет определять степень локализации? По плану, этим займется министерство промышленности и НПП «Атамекен». Но риск повторения прежних ситуаций, когда статус «отечественного производителя» присваивался компаниям, ограниченным лишь сборкой, сохраняется.
Механизм закупок – для нацпроекта создается отдельная платформа, где будут аккредитованы все поставщики товаров, работ и услуг. Закупки монополистов должны проводиться среди аккредитованных казахстанских компаний. Только при отсутствии местных производителей допускается привлечение иностранных. Однако возникает ключевой вопрос: кто и по каким критериям будет администрировать платформу и определять, казахстанский это производитель или нет? Если компания не аккредитована – она автоматически исключается.
Ценовой фактор. В международной практике, например, в проектах с Азиатским банком развития, существует механизм: если цена местного производителя выше на 10–20%, ему предлагают снизить стоимость или разработать план по повышению конкурентоспособности. В Казахстане подобного механизма пока нет. Что делать, если цена отечественного поставщика в два-три раза выше импортной, при том что качество часто оставляет желать лучшего?
Риски качества. Представим: 2025 год, первый год реализации программы. Тепловые сети Алматы закупают у аккредитованного казахстанского производителя запорную арматуру по цене вдвое выше зарубежной. В ходе монтажа выясняется, что качество не соответствует требованиям. Возникают претензии, судебные споры, а время уходит. В итоге страдает потребитель – тот, кто оплачивает тарифы и получает услугу ненадлежащего качества.
Таким образом, важнейшая задача – не только реализовать программу и обеспечить ее экономическую целесообразность, но и выстроить реальный контроль качества. Ведь в конечном итоге речь идет о качестве услуг, которые получают жители страны.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.



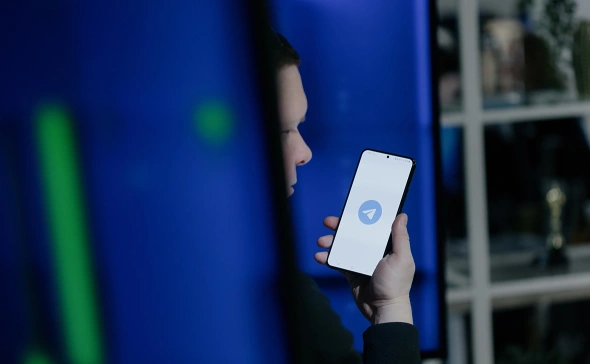

Вся коммуналка сгинет в один день и вся дорогая(любая) недвижка превратиться кучу ни кому не нужных стройматериалов. Правительство улетит жить на Марс,остальные по возможности…