Зачем нужен деколониальный взгляд на русскую литературу
Проблема постсоветской российской интеллигенции состоит в том, что «советская травма», вызывающая отторжение идеологического взгляда на искусство, мешает людям участвовать в разговоре о том, как детали и идеи времени, когда эти книги были написаны, работают в современном контексте. В итоге русские классические тексты не получили никакого заметного и последовательного этического комментария.
Идеологи нападения России на Украину, говоря о «необходимости» вторжения, часто оперируют темой защиты «великой русской культуры» и ее ценностей, которые будто бы были в опасности. В ответ в Украине и на Западе развернулась дискуссия о связи русской культуры с насилием и встроенной в нее колониальности. При этом среди россиян, как бы оппозиционно и антивоенно они ни были настроены, любые попытки взгляда на «великую русскую литературу» с подобной оптикой вызывают резкое отторжение, даже обиду.
Когда в середине 1980-х мой отец Анатолий Найман дописывал «Рассказы о Анне Ахматовой» (позже — один из важнейших текстов «Ахматовианы», но тогда было неясно, выпустят ли книгу вообще), он примерно раз в неделю звал маму и меня в комнатушку, которая торжественно называлась кабинетом, и читал свеженаписанные куски. Лучше всего я помню вечер, когда он читал кусок о том, как им, школьникам, в 1946 году объясняли суть «Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград»», которое декларировало новый накат цензуры и репрессий и объявляло, в частности, Ахматову практически вне закона.
Директор школы и по совместительству учитель литературы бодро чеканил про «упадничество» Ахматовой, вызванное «ее связью с буржуазной культурой». При этом, пишет отец, этот директор скорее импонировал ему. В первую очередь своей прямолинейностью. «Его подход к литературе был честным… Он не требовал любви к литературе, которая почему-то считается более обязательной, чем любовь к химии… Нравилась тебе поэма «Двенадцать», не нравилась, ты должен был знать, что она обличает царизм и воспевает революцию».
Тогда меня поразило, насколько этот подход был похож на подход к литературе в моей школе — а училась я на 35 лет позже того времени, которое у него описано. У меня было все то же самое: Онегин, Печорин, Чацкий — лишние люди, страшно далеки они от народа, воплощенного Татьяной Лариной, которая, хоть и дворянка, но «русская душою», так как воспитана няней.
Компанию Татьяне составляют съевший пуд соли с простыми солдатами и потому приблизившийся к ним Максим Максимыч из «Героя нашего времени» и крестьянин Платон Каратаев, краеугольный камень советской толстовской вселенной. С Раскольниковым дело обстояло сложнее, но в итоге все же объяснялось: его бунт против материального неравенства, воплощенного старухой-процентщицей, не удается, потому что это индивидуалистический бунт одиночки. А надо ему было примыкать к массам так, как это уже через несколько десятилетий опишет Максим Горький в романе «Мать».
В последнее время русская литература часто оказывается полем если не боя, то раздора. Обсуждаются ее ценности и влияние на умы. Один из недавних шумных литературных споров был вызван статьей американской писательницы Элиф Батуман в журнале «Нью-Йоркер»: «Перечитывая русскую классику в тени войны в Украине». Там она скорее демонстративно, чем последовательно применяет к «главным» русским текстам деколониальную оптику, вскрывая гнездящуюся в них имперскость.
Конфликт романа «Анна Каренина» в этой статье определяется так: героиня уходит от одного имперца к другому. Странным образом это (шокировавшее многих) описание показалось мне очень знакомым. В моей советской школе это подавалось бы так же. Каренин и Вронский, безусловно, аттестовались крепостниками и имперцами (тут стоит вспомнить, что Советский Союз декларировался антиимперским объединением, а его население — общностью нового типа под названием «советский народ»). Сама же Анна считалась заложницей лицемерия классового общества.
Элиф Батуман когда-то смертельно полюбила русскую литературу и даже описала свои с ней отношения в книге «Одержимые» (Thе Possessed). Так что в какой-то мере ее претензии к этим книгам — это претензии к себе самой, когда-то некритически их читавшей. Тем не менее текст вызвал в среде российской читающей публики эмоции, которые вернее всего можно описать словом «обида».
Эту обиду, в принципе, можно понять: русская литература и так настрадалась за последний год. Мучили ее в первую очередь те, кто преподносит себя сегодня ее защитниками. Плакаты с Пушкиным как метки оккупантов в Херсоне, портреты русских классиков на сетке, закрывающей руины разбомбленного театра в Мариуполе, — все это выглядит практически преднамеренной кампанией по налаживанию ассоциативной смычки «русская классика — военные преступления».
Для всех, кто любит русскую литературу, все это чрезвычайно болезненно. Из этой боли вырос ответный консенсус — путинская власть апроприирует великую русскую литературу, часто делая ее знаменем своих преступлений, «перетягивая» на свою сторону мертвых писателей, которые — из могилы — не могут этому противостоять. В Буче, Ирпене, Бахмуте виноват Путин, а не Пушкин. И «замазывание» Пушкина в этом — еще одно черное дело российской власти. Поэтому нас так ранят рассуждения о том, что режим Путина и развязанная им война уходят корнями в великие русские тексты (то есть о том, что Пушкин все-таки виноват).
Хотя, разумеется, никакой неожиданности в этом подходе нет. На Западе взгляд на любую литературу как на выражение социальной/расовой/ гендерной/колониальной правды времени еще в середине 1990-х перекочевал из научного обихода в общественный. Можно вспомнить, например, что скандал, возникший вокруг вышедшей в 1994 году книги «Западный канон», написанной профессором из Йеля Гарольдом Блумом, был не внутриакадемическим, а вполне медийным.
Блум составил список «великих книг», которые образуют общую для нас эстетическую систему координат, — ее условно можно назвать «Шекспир — Толстой — Данте». Блум говорит о литературе как об уникальной субстанции, замкнутой на себя: «Чтение в пользу какой бы то ни было идеологии — это вообще не чтение».
В американской интеллектуальной среде эта книга была почти единодушно воспринята в штыки как устаревшая и продвигающая колониальные ценности. А вот в узком кругу советских интеллектуалов-эмигрантов ее с восторгом передавали из рук в руки. Это даже сказывалось на личных отношениях — эмигранты-гуманитарии ссорились со своими американскими друзьями.
В принципе, этот литературный раскол был продолжением раскола общего. Писатель и политолог Дэвид Рифф наблюдал за «акклиматизацией» в Америке многих эмигрантов. Его мать, знаменитая писательница и философ Сьюзан Зонтаг дружила со многими из них и была их проводником в мире нью-йоркского интеллектуального истеблишмента.
В недавнем интервью, которое мы с коллегами брали у Риффа для документального фильма, он говорит о «сильнейшем политическом столкновении» между приехавшими из Советского Союза поэтами и писателями с американским интеллектуальным слоем. Эмигранты из СССР не были способны воспринимать левый дискурс ни в каком его проявлении. Для них «примыканию к левизне» нельзя было найти оправдания, а борьба с Советским Союзом и его влиянием оказывалась оправданием любых жестокостей и афер — от той же войны во Вьетнаме до Ирангейта.
Совпадение с советским идеологическим вектором не всегда означает, что суждение ложно, но отказ принять банальность про сломанные часы и правильное время приводил к тому, что позиция многих антисоветских советских интеллектуалов выглядела смешной и неприятной. К тому же она отчуждала их от того круга, к которому они в силу образования и сходства интересов вполне могли бы примкнуть.
Сегодня, кажется, эту ситуацию вполне можно описать психотерапевтическим термином травмы. Инакомыслящие в СССР были именно что травмированы тотальным давлением советского подхода абсолютно во всем. Их естественной реакцией было отвергать его полностью.
Осудить действия американцев во Вьетнаме значило примкнуть к диктору в телевизоре, а это было не только этически, но и эстетически невозможно. «Советская» повестка должна была быть отвергнута целостно и тотально (кстати, практически единственным, кто мог смотреть на мир «дифференцированно», различая добро и зло вне идеологии, был Андрей Сахаров — и это делает его столь актуальным сегодня мыслителем).
Эта травма, затронувшая советских интеллигентов вплоть до моего поколения и даже поколения после, выражается, в частности, в неприятии подхода к искусству с внешними идеологическими мерками, предполагающими, кроме всего прочего, «уравниловку» художественных качеств. Ведь мы помним время, когда главным считался не уровень художественности, а отражение борьбы классов. «Он выводил литературу на уровень, на котором книги были равны друг другу», — писал мой отец о своем учителе.
То отторжение, которое в русскоязычной среде вызывает применение постколониальной оптики к русской классике, — плод той же травмы. Неприятны не сами факты — смешно спорить с тем, что Каренин — имперец, в русской классической литературе, как, впрочем, и в современных ей английской и французской, чуть ли не все — имперцы. Возмущает угол зрения, при котором контекст становится важнее собственно литературы.
К тому же применение такой оптики, как и классовой, да и вообще любого целостного самодостаточного внешнего взгляда, неизбежно приводит к передергиваниям и натяжкам. Мне в советской школе предлагалось помнить о близости Татьяны Лариной к няне-крестьянке, а о ее английских и французских книжках забыть. Сегодня в «Нью-Йоркере» про «изувеченного в сраженьях» мужа Татьяны сообщают, что он ветеран захватнических войн на Кавказе (то есть опять же имперец), хотя даже поверхностный исторический анализ подсказывает, что он ветеран оборонительной войны с Наполеоном.
Мне тоже свойственно это неприятие. В принципе, я даже считаю его оправданным. Большое искусство и литература, в частности, заставляют нас выйти из своей скорлупы и обнаружить себя вне повседневности. Нельзя сводить их к свидетельству времени и выражению его часто малоприятных бытований.
У истоков русской литературы стоит история о напрасности войны и поражении войны, рассказанная в анонимном «Слове о полку Игореве». Один из самых влиятельных ее текстов «Преступление и наказание» говорит о том, что никакая цель не оправдывает отъятия жизни, даже если жизнь кажется нам ничтожной. Еще более важный «Война и мир» показывает войну как бессмысленный хаос, в котором человеческая воля не решает вообще ничего.
Проблема постсоветской российской интеллигенции состоит в том, что «советская травма», вызывающая отторжение идеологического взгляда на искусство, мешает людям участвовать в разговоре о том, как детали и идеи времени, когда эти книги были написаны, работают в современном контексте. В итоге русские классические тексты не получили никакого заметного и последовательного этического (в том числе постколониального) комментария.
Григорий Дашевский, один из самых тонких российских гуманитарных мыслителей, так описал возможность разговора о «великой литературе» сегодня. Лучший вариант тут — подход, как у историков науки. Когда современный астроном изучает античную астрономию, он знает и современную карту звездного неба, и то, что они видели тогда. Он знает, с какой истиной можно сравнивать то, о чем они говорили. Поэтому он не относится к тому, что они говорят, как к выдумкам, но и не принимает их тексты целиком на веру.
Так же, как современный астроном знает, о чем говорят античные трактаты, у нас есть свое знание того, о чем говорят великие романы. Рассуждая о них, мы не можем становиться вивисекторами, но и не должны быть ослеплены страстным поклонением.
Эта, казалось бы, простая формулировка никогда не была последовательно проведена нами в жизнь. А ведь в течение 20 лет после распада Советского Союза такая работа была вполне возможна. То важное, универсальное, касающееся наших душ, в этих книгах не было отделено от конвенций времени и его языка. Пару лет назад российская интеллигенция смеялась над голливудскими попытками примирить оптику сегодняшнего зрителя с идеями 70-летней давности — для чего к «Унесенным ветром» на стриминговых платформах предпослали предисловие. Но сами мы не сделали даже этого.

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы  Асар в Украине
Асар в Украине 

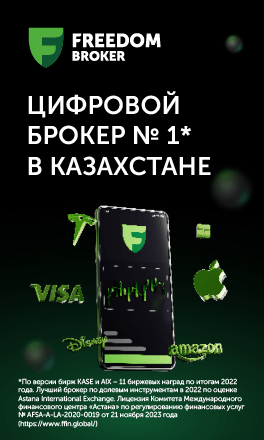
Комментариев пока нет