Чем степные аристократки отличались от наташ ростовых?
В Казнете разгорелся скандал между журналистами Мухтаром Туменбаем и Майей Бекбаевой, набравший десятки тысяч комментариев и репостов. Первый утверждает, что в одном из своих видео его оппонентка нелестно высказалась в адрес казашек.
Речь идёт о ролике, появившемся накануне Дня матери (11 мая) под названием «Почему алашординцы женились исключительно на русских женщинах?» По словам журналистки Бекбаевой, русские жены были более образованны – «с ними было, о чем поговорить». Словом, более конкурентоспособны, чем казашки.
Между тем, история знает немало примеров того, когда степная политика в значительной степени определялась казашками. Женщины из сословия торе были более деятельные, энергичные, независимые в своих поступках, поскольку в них с детства формировались чувство собственного достоинства и самодостаточность.
Ханша Бопай
Первые более или менее подробные сведения о женщинах-казашках появляются только с начала XVIII века. Это прежде всего относится к жене хана Младшего жуза Абулхаира (1718—1748) – Бопай-ханым. Даже с точки зрения патриархально мыслящих российских авторов XVIII-XIX веков, она была действительно яркой фигурой, которая привлекала их внимание своим недюжинным интеллектом и характером, заставляла посвящать ей отдельные страницы в различных документах, донесениях, а в последующее время (в конце XIX– начале XX веков) уже и в крупных исторических исследованиях.

Как утверждала казахстанский историк Ирина Ерофеева, в период патриархата даже в самой метрополии – дореволюционной России – роль женщины была весьма сложной. Многие евроазиатские традиции брака и семейных отношений, которые существовали в России, не отличались от классического Востока. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить знаменитый роман Льва Толстого «Анна Каренина», где рассказывается о трудностях и трагедии развода, через которые проходит женщина, чтобы, наконец, приобрести возможность самостоятельно устраивать свою жизнь. Пример знаменитого математика Софьи Ковалевской указывает, как сложно было женщине добиться права наравне с мужчинами заниматься наукой.
Что касается Бопай-ханым, то она, как свидетельствовала историк, обладала от природы определенным набором достоинств, которые создавали благодатную почву для ее возвышения. Это, в первую очередь, внешняя красота. Английскому художнику и путешественнику Джону Кэстлю, который побывал в казахских степях в 1736 году и общался с Абулхаиром и его женой, удалось запечатлеть прекрасный внешний облик ханши. Правда, в тот период, когда он рисовал ее, Бопай была отнюдь не молодой, ей было более 50 лет.
Никаких документальных сведений о том, как сложился брак между Абулхаиром и Бопай практически нет, но об этом сохранилось много исторических преданий, которые были записаны в конце XIX века.
Брак Абулахира с Бопай был во многом нетрадиционен для тех отношений, которые существовали в степи. Абулхаир рано остался без родителей. И хотя он был султанского происхождения, но не имел еще никакой широкой социальной поддержки и был практически нищим, а Бопай, по одной версии, принадлежала к торе, по другим преданиям – происходила из карасуек, но, тем не менее, была из очень обеспеченной семьи. И, естественно, отец не хотел выдавать замуж свою юную красавицу и умницу дочь за безродного и нищего султана.
Одно из преданий гласит, что Абулхаир, полюбив Бопай, скрыл свое султанское происхождение, чтобы устроиться к ее отцу пасти стада. У них завязался роман, она уже ждала ребенка и только тогда они решились объявить ее жесткому и властному отцу об этом. Отец Бопай будто бы поставил жениху полуфантастические условия – пригнать в качестве калыма 40 жеребцов с черными пятками, 40 – с белыми.
– Это, конечно, поэтизированная легенда, но здесь во многом явно угадываются многие реальные мотивы – сиротство Абулхаира в раннем возрасте, его бедность и невлиятельность, – утверждала Ирина Ерофеева. – И по обыкновенной логике вещей нетрудно догадаться, что подобный торе был в то время отнюдь не завидным женихом для любой девушки. А Бопай, судя по всему, была из круга очень обеспеченного, и поэтому брак был неравным.
Роль этой женщины интересна была тем, что она была не просто верной супругой и добродетельной матерью. Бопай – это отнюдь не классический казахский вариант Наташи Ростовой, которая женским инстинктом угадывала по выражению лица своего мужа, что он хочет сказать, и полностью повторяет его слова и мысли, не имея при этом собственного взгляда на общественные проблемы. Ханша Бопай, напротив, будучи рядом с мужем, обладала вполне самостоятельным мировоззренческим кругозором и не просто угадывала его мысли и подчиняла свои интересы его устремлениям, – у них в значительной степени эти устремления совпадали. Она была женщиной честолюбивой, властной и совсем не стремившаяся смириться с положением поддакивающей супруги – она хотела влиять на политику мужа. Во многих документах, в частности, подчеркивается, что очень часто Бопай спорила с Абулхаиром, убеждала его в неправоте отдельных действий. Кроме того, она вела вполне самостоятельную переписку и имела независимые от него контакты с царскими администраторами и, возможно, с джунгарскими правителями.
В частности, например, в контактах с мусульманином Алексеем Тевкелевым (настоящее имя Кулмухаммед-мурза) она, смиренно опустив голову, вела себя как истинная мусульманка и разговаривала с ним в подчеркнуто витиеватых, уважительных выражениях.
В то же время стиль ее переписки с первым губернатором Оренбургского края Иваном Неплюевым свидетельствует о довольно своеобразных контактах с этим человеком. В свое время известный русский историк второй половины XIX века Витевский, характеризуя роль Неплюева в истории Оренбургского края, очень емко и образно назвал его Петром Великим Оренбургского края, поскольку он заложил там основы российской колониальной политики. Будучи чрезвычайно сильной политической фигурой, Неплюев был не исполнителем воли царского правительства, а формировал эту волю из Оренбурга.
У него, со слов Ирины Ерофеевой, были сложные отношения с ханом Абулхаиром, их переписка, особенно со стороны Абаулхаира, носила эмоционально-резкий, где-то даже неприязненный характер. Совершенно другие отношения существовали у Оренбургского губернатора с Бопай-ханым. Неплюев относился к ней подчеркнуто любезно и вежливо, делал ей различного рода подарки, а стиль ее писем к нему был достаточно фамильярный и даже кокетливый. То есть она пыталась использовать свое женское оружие в проводимой в степи политике и, в то же время, сглаживать те противоречия, которые существовали между ее мужем и губернатором. В данном случае, не оставаясь в тени мужа, она играла самостоятельную роль. И ей, действительно удавалось где-то регулировать отношения и смягчать взаимное недовольство друг другом Неплюева и Абулхаира. Кстати говоря, ханша Бопай имела и собственную свою печать, которую ставила на деловых письмах.
Письма у нее не просто кокетливые – они очень интересные и живые. В одном из них она, в частности, благодарит Неплюева за посылку какой-то косметики. «Пришлите мне еще что-нибудь, я так хочу помолодеть, мне хочется нравиться». А еще письма Бопай привлекательны тем, что в отличии от многих других мужских и женских писем, в них отражается не только индивидуальность этой женщины, но особый, неповторимый колорит. Тогда как, например, этого не скажешь о письмах ее сыновей (допустим, Нуралы-хана).
Бопай, как явствует из документов, не просто давала советы мужу, но и выезжала с ним на курултаи казахской знати, где была активным оратором, влияющим на аудиторию. Старшины слушали ее, не пытаясь даже возражать.
Это, как утверждает Ирина Ерофеева, феноменальный случай в истории Казахстана: «Я больше не встречала в исторических материалах, чтобы женщина участвовала в сугубо мужских курултаях. Обычно они там даже не присутствовали. Бопай была настолько властной женщиной, что, когда погиб Абулхаир, она в течение десяти лет оказывала очень сильное влияние на своих сыновей. И они, нравилось им это или нет, вынуждены были слушать мать и выполнять ее волю. Прожила эта женщина достаточно долгую жизнь, умерла она на сто первом году жизни – 31 мая 1780 года. Правда, последние 20-30 лет ее жизни – видимо, по причине болезни – почти не освещены.
Казахская Мата Хари
Были в степи и другие неординарные женщины. Например, княгиня Тайкара, дочь Нуралы – одного из сыновей Абулхаира и Бопай.

Тайкара – единственная казашка в дореволюционный период, которой была посвящена масса восторженных отзывов. Если по отношению к Бопай у царских чиновников была более уважительная и почтительная интонация, так как она была женщиной уже в возрасте, то в отношении Тайкары царские чиновники проявляли к ней чисто мужские эмоции.
Она была дочерью Нуралы-хана от женщины, на которой он женился в довольно позднем возрасте по обычаю левирата – она была женой его младшего брата Чингиза, который рано умер. Их дочь отличалась, как описывают современники, красотой, которая приводила всех чиновников Оренбургского края в изумление. Неординарная внешность сочеталась с интеллектом, шармом, умением одеваться, носить и европейскую и восточную одежду.
Благодаря тому, что ее муж, кожа Нурмухамед Абжелилов, был в составе пограничного суда при Оренбургской пограничной комиссии, она имела возможность бывать и в Петербурге, где усвоила лоск российских светских дам, хотя там она одевалась подчеркнуто в восточные одежды.
Когда в Оренбургском крае в качестве губернатора появился барон Отто Генрих фон Ильгестром, первая же встреча с Тайкарой произвела на него неизгладимое впечатление. Она стала фавориткой Игельстрома, что дало потом основания выполнять ей роль казахской Мата Хари.
Потомки Абулхаира, возмущенные тем, что институт ханской власти в Младшем жузе был ликвидирован после восстания Срыма Датова, возложили на нее миссию повлиять на барона с тем, чтобы он был восстановлен. И Тайкаре это удалось. В последующем царские чиновники, будучи глубоко уязвленными этим, писали об Игельстроме как об «идиоте, старом селадоне, который потерял голову от киргизской красавицы».
Много написано о бабушке Чингиза Валиханова – Айганым-ханум, женщине умной, самостоятельной и гораздо более сильной, и интересной, чем ее муж – хан Вали. Более того, она была женщиной, обладающей стратегическим мышлением. В отличие от многих своих современников, она прекрасно понимала значение и необходимость образования для детей, поэтому Айганым организовывала школы в степи, вела переговоры с Омской администрацией на предмет того, чтобы ее сына приняли на учебу, что также нетипично для того времени. Ее самостоятельность проявлялась и в вопросах землепользования.
О сестре Кенесары – знаменитой султанше Бопай, женщине, которая вместе с братом последовательно участвовала в борьбе с царскими войсками, тоже осталось немало воспоминаний. Но, к сожалению, документов, проливающих свет на какие-то другие особенности ее характера, мало.
Информационная провокация
Вернемся к теме – почему все-таки агрессивные посты собирают десятки тысяч репостов и комментариев?
Как выяснилось, устойчивую популярность провокационного контента, сознательно направленного на вызов гнева, агрессии и полярных реакций в социальной среде психологи называют rage-bait (дословно – приманка на ярость). Именно поэтому, считают они, людей тянет в бой, когда незнакомец в интернете заявляет, что «Все мужики – козлы, а все женщины – тарелочницы”, “Қазақша сойле” или «Все травмы — от мамы!»
По сути rage-bait – это информационная провокация, нацеленная на массовую эмоциональную реакцию, – говорит аналитический психолог Мария Белова. – Но с точки зрения юнгианской психологии, это не просто кликбейт, а запуск коллективной тени – вытесненных, неинтегрированных аспектов психики, присутствующих как в индивидуальном, так и в общественном бессознательном.
Высказывания типа «мужчины не заслуживают любви» или «все психологи — шарлатаны» апеллируют не столько к рациональной части личности, сколько к архетипическим структурам – чувствам вины, стыда, ощущения несправедливости, опыту отверженности. Происходит мгновенное высвобождение аффекта, сопровождаемое потребностью в немедленной реакции, а это уже является симптомом напряжения между сознательной установкой и вытесненным содержанием. Алгоритмы социальных сетей становятся просто усилителем психологической динамики, как отдельного человека, так и социума в целом. Для автора rage-bait-постов это часто становится формой бессознательного выражения внутреннего конфликта через внешнюю провокацию. Для аудитории – формой участия в коллективной драме, где каждый комментарий является попыткой защитить свое Эго от столкновения с Тенью.
– Когда у человека много тревоги, это вызывает напряжение, – считает коллега Марии Беловой, аналитический психолог Айгуль Садыкова. – Легче всего сбросить его через какое-то физическое действие (например, спорт). Но проще всего писать проклятья в сети, потому что то, что выставлено там, начинает вызывать у пользователей какие-то эмоции. И чем больше агрессивных выпадов, тем выше показатель тревожности общества и это очень плохой признак. Мы не можем сказать о прошлом времени, потому что раньше соцсетей не было. Возможно, сброс напряжения шел тогда через что-то другое.
На мой взгляд, тот мощный поток информации, который сейчас есть, тоже, как ни странно, вызывает напряжение, потому что его надо постоянно перерабатывать, тем более, что большая часть информации негативная: нарастающая инфляция, нестабильность, войны и т.д. С другой стороны, как никогда стала видна поляризация общества – часть людей живет в роскоши, а часть – выживает и это вызывает агрессию простых людей. Однако тот, кто полностью доволен своей жизнью, никогда не будет вестись на провокации в сети, агрессивно поддерживая чью-то позицию.

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы 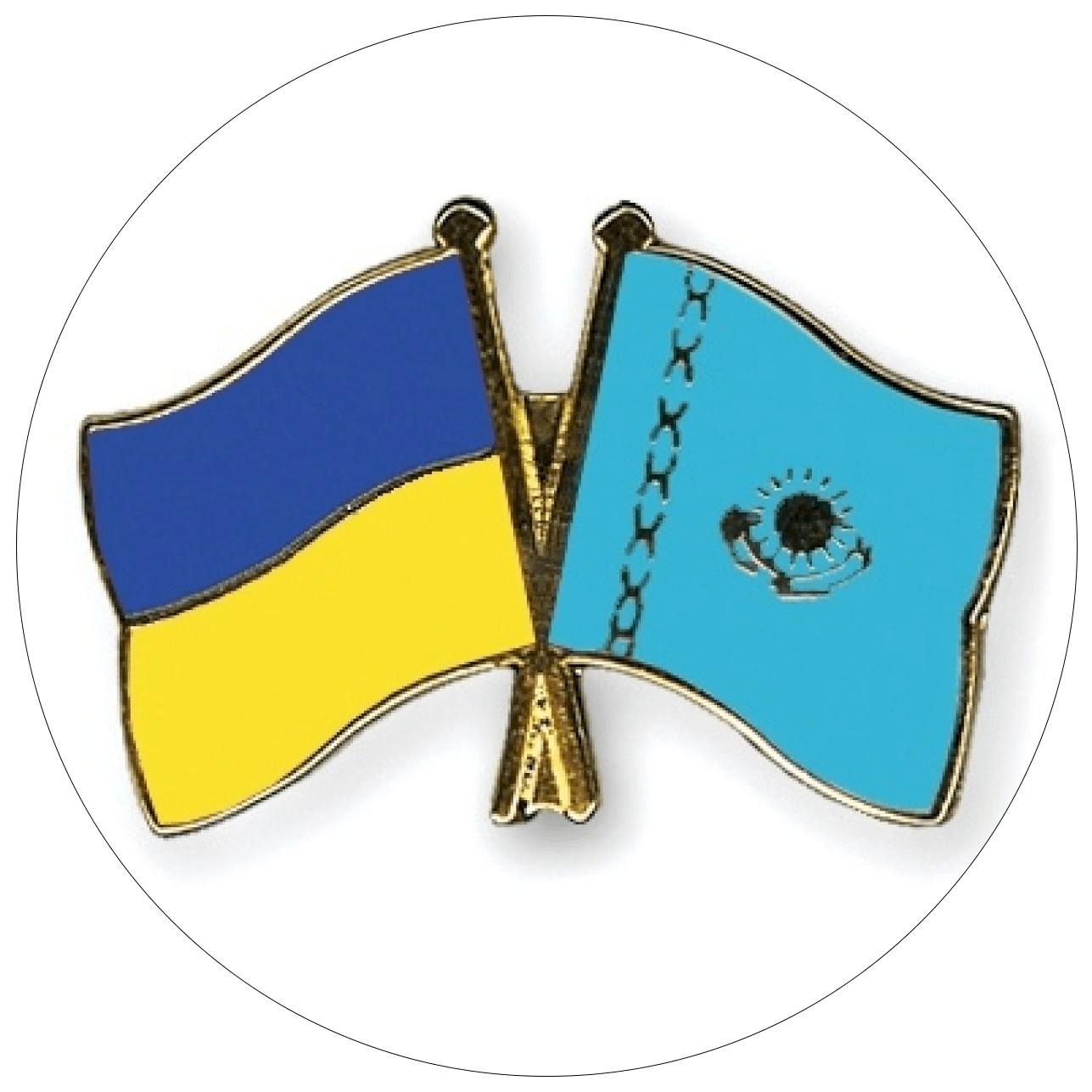 Асар в Украине
Асар в Украине 


3 Комментариев
Отличный материал! Особенно в отношении rage-bait и его психологических основ. К сожалению, людям, попадающим в жернова такой необоснованной ярости, очень трудно в моменте. Но, по себе знаю, это обычно идет ему на пользу: приходит лучшее понимание людей, своей миссии, возникают новые идеи и смыслы.
Сейчас русские женятся на казашках даже охотнее, чем казахи на русских.
Хорошо что Ерофеева умерла, теперь можно без страха и совести драть ее тексты и рубить гонорары