Есть ли у Казахстана шанс отсудить у нефтяных гигантов $150 млрд?
Как мы уже писали, Казахстан оспаривает десятилетние сделки, предъявляя иск на сумму против крупных нефтяных компаний на сумму около 160 миллиардов долларов. Но поводом для иска является нарушение экологических норм.
В 2021 году в Казахстане был принят новый Экологический кодекс. Он включает ряд прогрессивных положений, но вот проблема – минэкологии не просто не спешит требовать их соблюдения, но даже собирается от них отказаться. О том, почему так происходит, Exclusive.kz поговорил с юристом Арманом Бигазиным, который был основным консультантом при разработке нового Экологического кодекса.
– За последнее время в новостях несколько раз упоминалось о назначении различным предприятиям крупных штрафов за нарушение экологических норм. Например, в прошлом году NCOC (оператора Кашагана) хотели обязать выплатить более 5 млрд долларов. Это какая-то новая тенденция?
– Я бы сказал, что это в большей степени вопрос восприятия. Штрафы действительно выписываются, но какого-то всплеска я не наблюдаю. Возможно, случаи, как с NCOC, просто больше привлекают внимание общественности из-за громких сумм. В целом, если смотреть на судебную практику и публикации, существенного роста количества штрафов не видно.
Возможно, СМИ стали активнее освещать такие случаи. Но, например, в случае с NCOC там ведь не только экологическая составляющая, во многом это политико-экономический кейс, а общие суммы претензий назывались вплоть до 150 млрд долларов.
Тем более нет никаких объективных причин, почему должна вырасти выявляемость нарушений.
Когда мы работали над экологическим кодексом, мы анализировали международный опыт, общались с экспертами, например, из Словакии. У них около 350 инспекторов на всю страну. В Казахстане – чуть больше 200. Причем эта цифра с тех пор не изменилась. Без увеличения числа инспекторов и усиления их возможностей говорить о росте выявляемости нарушений – странно.
– Принятие в 2021 году нового Экологического кодекса тоже никак на ситуацию не повлияло?
– Не особенно. Из Министерства экологии ушли многие специалисты, которые участвовали в разработке кодекса. По сути, институциональная память утеряна. А ключевые элементы, такие как автоматизированная система мониторинга, до сих пор не внедрены. Благодаря этой системе инспектор мог бы в режиме онлайн видеть показатели эмиссии на разных предприятиях. Это позволило бы не только легко определять, кто нарушает стандарты, но и отслеживать, работают ли компании над тем, чтобы ситуацию улучшить.
На некоторых предприятиях, может, и стоят датчики, но полноценной платформы по сбору и анализу данных государство не создало.
– Насколько вообще система штрафов эффективна с точки зрения побуждения компаний соблюдать экологические нормы и становиться более «зелёными»?
– Штраф – это инструмент, но он должен применяться в самую последнюю очередь. У любого штрафа, как учат на юридических факультетах, есть несколько функций: превентивная, карательная и фискальная. Но если мы видим рост количества штрафов, то это, скорее всего, говорит о провале работы по предотвращению нарушений.
Если бы мы увидели рост раскрываемости тяжких преступлений, мы бы не радовались, а спрашивали – почему этих преступлений стало больше? То же самое и с экологией. Штрафы – это удобный показатель для отчётности госорганов. Но если вы инспектор, и вы регулярно штрафуете крупные предприятия, возникает вопрос: а где была система предотвращения?
Раньше компании воспринимали штрафы как «абонемент на загрязнение», просто закладывая их в бюджет. Предприятия понимали, что даже при хорошей экологической политике можно «попасть» на штраф из-за пробелов в законе. Поэтому они планировали эти расходы заранее. Новый Экологический кодекс как раз и направлен на то, чтобы сместить акцент с наказания на предотвращение. На этой идеи основаны два его ключевых принципа: предотвращение загрязнения и «загрязнитель платит».
«Загрязнитель платит» – это не просто «заплатил за ущерб и спокоен». Этот принцип означает не только финансовую ответственность после нанесения вреда. Он требует вложений на этапе проектирования, чтобы не допустить загрязнения. Это значит – нанять квалифицированных проектировщиков, провести исследования, оценить воздействие и заранее вложиться в экологически безопасные решения. Вот это и есть “загрязнитель платит” в правильном понимании.
– Как с этим принципом связаны так называемые наилучшие доступные техники (НДТ)? Это специальные технологии, которые уменьшают вред для экологии?
– НДТ – это не просто технологии. Это, скорее, подходы к ведению деятельности, которые наилучшим образом снижают воздействие на окружающую среду. Это могут быть фильтры, замкнутые циклы водоснабжения, энергоэффективные установки, системы утилизации отходов и многое другое. Главное, что эти решения должны быть экологически эффективными и одновременно экономически доступными для предприятия. То есть нельзя требовать от завода, чтобы он установил супердорогие фильтры, если это приведет к его банкротству.
Если технология есть, но она требует миллиардных вложений, которые не окупаются при существующем рынке, это не считается НДТ. Важно находить баланс между возможностями предприятия и требованиями к экологичности.
Вообще, это важнейшая часть нового кодекса. Раньше предприятия могли просто «откупиться» штрафом. Сейчас идея в том, что лучшее воздействие на предприятие – это не разрешить ему работать, пока оно не внедрит НДТ. И это уже совсем другой уровень регулирования. В Европе, например, инспектор может каждый день позвонить на предприятие, уточнить по датчикам, получить разъяснения. Он не каратель, а консультант. А у нас до сих пор часто работает старая модель: пришёл, нашёл нарушение, выписал штраф.
– Насколько я понимаю, несмотря на принятый Экологический кодекс и прописанные там нормы, внедрение НДТ у нас пока особо не идёт. Почему?
– Причин несколько. Во-первых, у бизнеса – особенно у крупного – нет большого желания этим заниматься. С самого начала при разработке Кодекса предприятия, особенно энергетические, были против. Они говорили: «Нам и так тяжело, вы на нас ещё и дополнительные расходы навешиваете». Но это популизм.
Понятно, что у них есть определенные экономические проблемы. Но если вы серьезно настроены, зачем откладывать, если потом все равно этим заниматься?
В декабре прошлого года вышло постановление, согласно которому 22 крупнейших загрязнителя из числа ТЭЦ, получают отсрочку по внедрению НДТ. Идея была такая, что если от НДТ отказываются, то у предприятий будут расти налоговые ставки. Соответственно, у этих ТЭЦ ставки расти не будут.
В СМИ писали, что внедрение НДТ на этих предприятиях отложили на 6 лет, с 2025 на 2031. Но нас самом деле, их отложили на 16 лет, потому что в 2025 году они должны были только оформить комплексное экологическое разрешение, а на внедрение НДТ дается 10 лет. Хорошо, если 10 лет вам мало, договоритесь с государством на 15 и сразу оформите экологическое разрешение. Но почти никто из крупных компания до сих пор это разрешение не получил.
– А с точки зрения законодательства они обязаны это делать?
– Да. В кодексе прямо указано: предприятия первой категории (наибольшие загрязнители) должны внедрять НДТ и получать комплексное разрешение. Это обязательство, а не пожелание. Если ты открываешь новый завод – ты обязан соответствовать с первого дня. Но старые компании пытаются играть по старым правилам.
– Почему Министерство экологии на это закрывает глаза?
– Возможно, потому что тоже не хватает кадровых ресурсов, ни политических. Да и бизнес сильный – мы говорим о системообразующих компаниях: ТЭЦ, крупные нефтегазовые операторы. Закрыть такие предприятия нельзя – иначе останется без тепла целый город. Поэтому, да, они взаимозависимы: государство не может сильно давить, а бизнес этим пользуется.
На мой взгляд, разумный путь – не отменять всё, а дать больше времени и зафиксировать это письменно. Чтобы было понятно, кто, когда, сколько вложит. Государство даже предоставляет стимулы: если ты получил комплексное разрешение, ты освобождаешься от платы за эмиссии. То есть деньги, которые ты платил бы в бюджет, ты можешь направить на фильтры и технологии. Это логично. Но почему бизнес не идёт по этому пути – остаётся вопросом.
– Как я понимаю, Экологический кодекс, принятый в 2021 году, содержит довольно много прогрессивных положений, но исполнять их не спешат. Почему государство медлит с этим?
– По уровню прописанных принципов, механизмов, структуры ЭК – это очень продвинутый документ. В нём заложены всё: и НДТ, и автоматизированный экологический мониторинг, и участие общественности, и переход от штрафов к предотвращению. Но пока он опережает как возможности государства, так и готовность бизнеса.
На это влияют разные факторы. Где-то – кадровый дефицит, из Министерства экологии многие специалисты ушли. Где-то – отсутствие политической решимости. А где-то – банальное сопротивление со стороны бизнеса, который не хочет терять прибыль. Добавьте сюда слабый контроль со стороны общества – и получаете ситуацию, где по бумаге у нас всё хорошо, а на деле – мало что меняется.
Носам факт, что новые предприятия теперь обязаны с самого начала соответствовать требованиям НДТ – это уже большой шаг. Им нельзя больше строиться по старым схемам, у них просто не будет разрешений. Например, это может коснуться потенциальных инвесторов, которые будут добывать у нас редкоземельные металлы, о чем сейчас много говорят.
Но сейчас есть очень неприятные сигналы, что государство не просто откладывает принятие продвинутых мер, но и откатывает все назад. Насколько мне известно, Министерство экологии сейчас готовит соответствующий блок поправок в действующий кодекс.
Нужно понимать, что если мы сейчас не займёмся модернизацией – завтра просто станет поздно. Вред окружающей среде накапливается, как трещины в доме. Можно откладывать капитальный ремонт, но однажды он просто обрушится. А пока мы спорим о сроках и выгодах, природа продолжает страдать. Общественники это видят первыми, они бьют тревогу, и правильно делают. Именно между интересами государства, бизнеса и общества должен рождаться баланс – и Экологический кодекс это позволяет, если им пользоваться.

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы 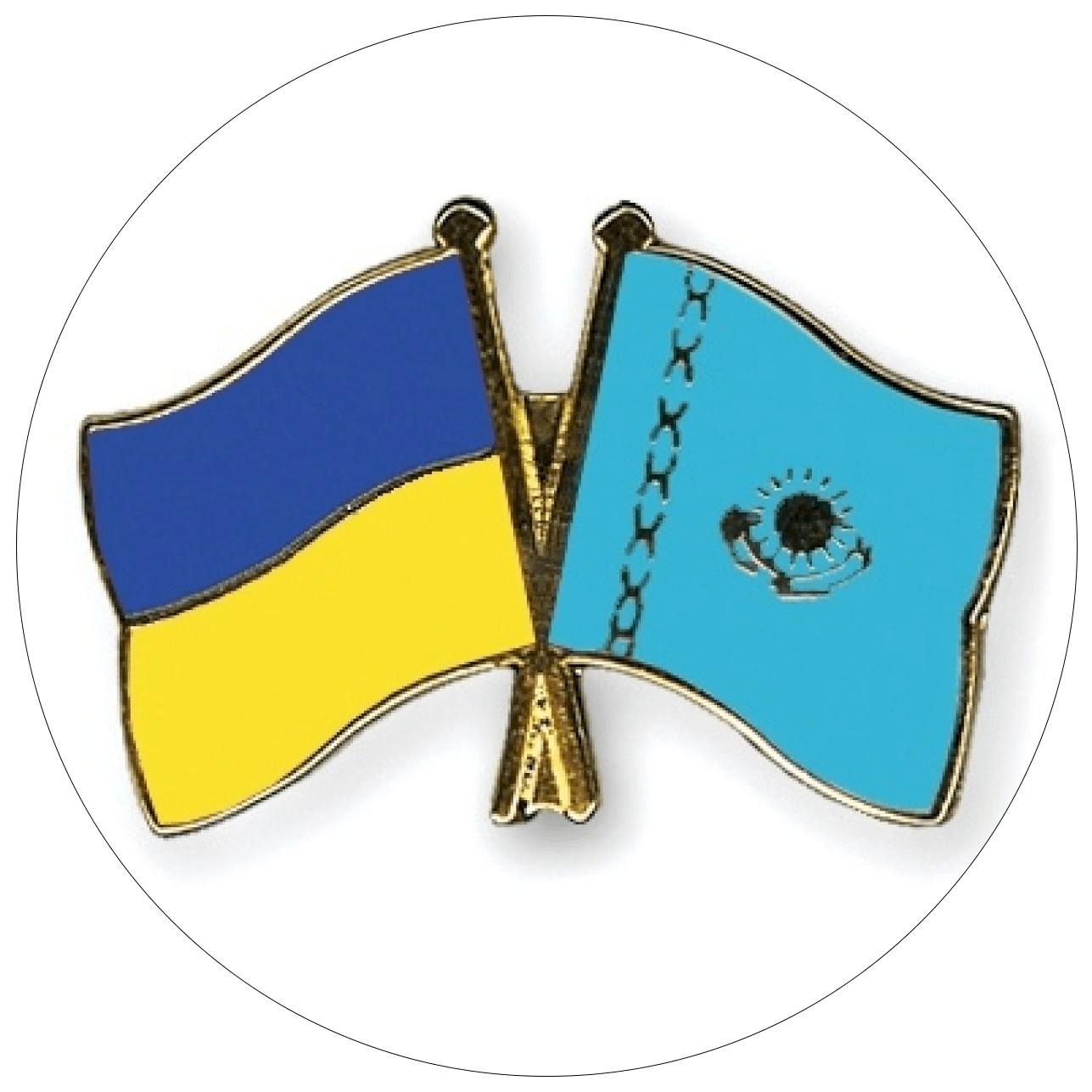 Асар в Украине
Асар в Украине 


Комментариев пока нет