Как можно было пополнить бюджет без повышения налогов
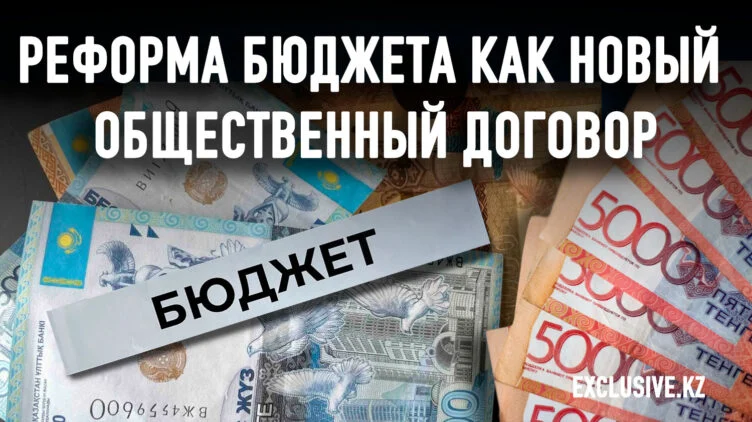
Отчёт правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год и основные выводы Высшей аудиторской палаты (ВАП) говорит о том, что за формальными цифрами скрываются институциональные и системные вызовы, которые до сих пор остаются без должного внимания.
В отчёте правительства за 2024 год подчёркивается высокий уровень исполнения бюджета: 98,1% по доходной части. Дополнительно зафиксирован рост доходов на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, что в первую очередь связано с увеличением трансфертов из Национального фонда (+35,5%) и заимствований (+31,4%). На первый взгляд, макроэкономические показатели выглядят устойчивыми. Однако при детальном рассмотрении возникают фундаментальные вопросы.
Многие государственные органы отчитались об освоении 100% выделенных средств, а некоторые – даже о перевыполнении. Правительство подчёркивает, что по таким направлениям, как образование, водоснабжение и сельское хозяйство, достигнуты запланированные количественные цели, проведены необходимые работы и запущены программы. Однако такой подход не позволяет судить о реальных результатах.
Во-первых, освоение средств не равнозначно эффективности. Само по себе расходование бюджета – это процесс, а не результат. Построенный за миллиард тенге спортивный комплекс, если он простаивает без посетителей, не создаёт общественной ценности. В отчёте отсутствует оценка отдачи от вложенных средств (ROI), не применяются показатели результативности (KPI), не используется принцип «деньги в обмен на результат» (Value-for-Money). Это говорит о системной слабости в планировании и контроле за бюджетной реализацией.

Во-вторых, в отчёте честно признаны проблемы, включая неэффективное использование 371,5 млрд тенге. Несмотря на снижение объёма нарушений по сравнению с 2023 годом на 24%, сумма остаётся значительной. Кроме того, бюджетное уточнение было отложено на четыре месяца, что негативно повлияло на реализацию инвестиционных проектов. Были и случаи, когда планы корректировались задним числом – уже после завершения года, что искажает реальную картину исполнения.
В-третьих, отмечены сбои в межведомственной координации и слабая исполнительская дисциплина. Это особенно остро проявляется в реформах, требующих согласованных усилий различных министерств и ведомств. При отсутствии сквозных метрик и координационных механизмов повышается риск несоответствия между целями и достигнутыми результатами.
Заключение Высшей аудиторской палаты, представленное одновременно с отчётом Правительства, не только подтверждает указанные проблемы, но и расширяет перечень системных недочётов. ВАП обращает внимание на непрозрачность методологических оснований прогнозов, отсутствие пояснений к ключевым макроэкономическим допущениям и уязвимость доходной части бюджета.
Так, снижение поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 8,3% вызывает обоснованную тревогу, особенно на фоне заявленного роста ВВП. Поскольку НДС является основным источником доходов республиканского бюджета, подобная тенденция требует глубокого анализа: возможно, речь идёт о росте теневого сектора, снижении потребления или неэффективном администрировании. В отчёте такие причины не раскрываются.
Ещё более настораживает сокращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) почти на 30%. Правительство не дало анализа причин этого падения. Оценка инвестиционного климата, идентификация барьеров и рисков, изучение реакции инвесторов на внутреннюю экономическую и регуляторную политику – всё это осталось вне рамок документа. Между тем, снижение ПИИ ставит под сомнение устойчивость будущего роста.
ВАП также подчёркивает отсутствие сценарного анализа устойчивости бюджета. Рост доходов в 2024 году обеспечивался в основном за счёт трансфертов из Нацфонда. Это усиливает фискальную зависимость от нефтяных поступлений и мировых цен на сырьё. Однако в отчёте не рассмотрены альтернативные сценарии: как поведёт себя бюджет при падении цен на нефть? Есть ли предусмотренные резервы? Каков порог устойчивости текущей модели?
Не менее важен вопрос качества самого экономического роста. Правительство заявляет о росте ВВП на 10%, но не поясняет его природу. В условиях инфляции выше 15% такой рост может быть номинальным, не отражающим расширения производства или увеличения занятости. Отсутствие разбивки по секторам, по видам активности и по регионам делает невозможной полноценную оценку.
Таким образом, анализ отчёта Правительства и заключения ВАП демонстрирует общий дефицит аналитики. Бюджетная отчётность сводится к выполнению формальных планов и освоению средств, без оценки факторов, влияющих на достижение целей, и без анализа эффекта от расходования средств. Это снижает доверие к государственной отчётности и ограничивает возможности для принятия взвешенных решений.
Отдельно стоит выделить проблемы в доходной части бюджета.
Во-первых, структура налоговой базы остаётся непрозрачной. Неясно, какие отрасли, регионы или компании формируют основную массу налоговых поступлений, а какие остаются недозагруженными. Крупным налогоплательщикам предоставляются льготы, которые не переоцениваются годами. Результат – государство теряет доходы, но точная сумма потерь неизвестна, поскольку отсутствует системная оценка налоговых преференций.
Во-вторых, теневая экономика продолжает оказывать разрушительное воздействие на бюджетную систему. По оценкам экспертов, от 20 до 25% экономики функционирует вне официальной отчётности. Это означает, что значительная часть налогов не собирается, уровень социальной ответственности бизнеса снижен, а конкурентная среда искажена.
В-третьих, налоговое администрирование нуждается в модернизации. Один из базовых макроэкономических индикаторов – доля налогов в ВВП – в Казахстане составляет 20–22%. Для сравнения: в странах ОЭСР этот показатель колеблется в диапазоне 35–50%. Это означает, что объём доступных государству ресурсов существенно ниже, а значит – ниже возможности финансировать здравоохранение, образование, инфраструктуру и социальные программы.
Кроме того, отсутствует публичный анализ эффективности налоговых проверок. Нет сведений о том, сколько в среднем доначисляется по итогам одной проверки, какова доля невзысканных сумм, какова стоимость администрирования одного тенге налога. Всё это необходимо для оценки продуктивности фискальной системы. Также нет сведений о качестве взаимодействия между базами данных налоговой, таможенной и имущественной систем. Анализ не охватывает вопросы цифровизации, автоматизации процессов и внедрения предиктивной аналитики.
Серьёзным упущением остаётся отсутствие единой стратегии внедрения ИИ в налоговую систему. В развитых странах (например, Эстонии, Сингапуре, Великобритании) подобные технологии позволяют прогнозировать уклонение, автоматизировать сбор, минимизировать человеческий фактор и сокращать издержки. В Казахстане пока не проводится аудит цифровых решений с точки зрения их влияния на налоговую эффективность.
Наконец, не анализируется пользовательский опыт налогоплательщиков – особенно малого бизнеса и физических лиц. Уровень добровольного налогового комплаенса напрямую зависит от простоты и понятности системы. Если налоговые процессы перегружены, интерфейсы устарели, а обратная связь отсутствует – возрастает доля утаивания доходов. Этот аспект также выпадает из отчётности и аудиторских документов.
Таким образом, доходная часть бюджета страдает не столько от формального недосбора, сколько от отсутствия полной аналитической картины. Без неё невозможно понять, где реальные резервы, кто их формирует и как на них воздействовать. А значит – невозможно выстраивать устойчивую бюджетную политику.
Расходная часть бюджета, несмотря на высокий уровень исполнения, также вызывает серьёзные вопросы. Часто освоение средств представляется как достижение, однако само по себе расходование бюджета не говорит о результатах. На практике это приводит к подмене целей: деньги потрачены – значит, работа выполнена. Но что конкретно было достигнуто? Каков эффект? Кто получил пользу? Эти вопросы остаются без ответа.
Показателен пример: в регионе построен спортивный объект стоимостью более одного миллиарда тенге. Средства освоены, объект сдан в эксплуатацию. Однако он не используется по назначению, не приносит социальной пользы, не способствует оздоровлению населения. В итоге – формальное исполнение, но отсутствующий результат.
Такой подход стал устойчивой практикой. Вместо того чтобы измерять эффективность, акцент делается на факт расходования. Это противоречит современной логике бюджетного управления, где на первый план выходит не освоение, а результативность: сколько пользы принёс каждый потраченный тенге.
Один из ключевых индикаторов – доля бюджетных расходов в ВВП. В Казахстане в последние годы она колеблется в пределах 21–24%. Для развивающихся стран это средний уровень: Латинская Америка – около 25%, Юго-Восточная Азия – 23%. В странах ОЭСР этот показатель составляет от 35 до 50%, в Скандинавии – до 55%. Таким образом, при всех заявлениях о социальной направленности бюджета, Казахстан объективно располагает ограниченными ресурсами для финансирования общественных благ.
Причины этой ограниченности – не только узость налоговой базы и низкий уровень администрирования, но и структурные перекосы в расходах. Значительная часть бюджета направляется на инфраструктурные проекты, субсидии и поддержку отдельных отраслей. В то же время здравоохранение, образование, научные исследования и социальная поддержка недофинансированы – особенно в сравнении с развитыми странами.
Эта структура в значительной степени унаследована от индустриальных моделей развития. Однако в условиях цифровой экономики, стареющего населения и растущего запроса на качество жизни, приоритеты должны сместиться. Государственные инвестиции должны быть направлены на человека – его здоровье, знания, безопасность и возможности.
Другой системной проблемой остаётся отсутствие оценки окупаемости (ROI) и эффекта от крупных государственных проектов. Отчёт не даёт понимания, какие расходы дали социально-экономический эффект: рост занятости, экспорт, снижение бедности. Отсутствует анализ результативности инфраструктурных и инвестиционных программ, включая дорожное строительство, агроинфраструктуру и проекты водоснабжения.
Не ведётся региональный анализ: какие области получают больше, а какие – хронически недофинансированы. Это усиливает социальное неравенство, порождает ощущение несправедливости и подрывает доверие к централизованному распределению бюджета.
Фактор инфляции также практически не учитывается. Рост расходов может быть обусловлен ростом цен, а не реальным увеличением объёма закупок и услуг. Без учёта инфляционной корректировки невозможно судить об эффективности бюджетной политики. Иными словами, номинальный рост – не всегда означает реальный результат.
Ещё один недооценённый элемент – влияние валютного курса. Ослабление тенге увеличивает стоимость внешнего долга и импортных контрактов. Однако в отчёте отсутствует анализ чувствительности бюджета к курсовым колебаниям. Не раскрыто, какая часть расходов зависит от валютных факторов, как девальвация отражается на социальных программах, каковы сценарии при изменении курса.
Отдельно стоит отметить отсутствие оценки согласованности между действиями Национального банка, Агентства по регулированию финансового рынка и самого Правительства. Формально действует меморандум, однако он не имеет юридической силы. Нет совместной аналитики, нет публичных докладов о согласованности действий. Между тем решения НБ – повышение ставки, изменение норм резервирования, сокращение ликвидности – напрямую влияют на реализацию бюджетных программ.
Для сравнения: в ЕС Европейский центробанк и Европейская комиссия выпускают совместные доклады, согласовывают параметры экономической стратегии и регулярно обсуждают риски. Это обеспечивает не только институциональную согласованность, но и повышает предсказуемость политики.
Казахстану также необходим переход к зрелой бюджетной архитектуре. Прямой перенос западных моделей невозможен, но вектор развития очевиден – ориентация на результат, институциональное доверие, подотчётность, прозрачность и постоянный контроль.
Нужна реалистичная поэтапная дорожная карта реформ
1. Реформа доходной части бюджета: повышение собираемости налогов за счёт цифровизации, интеграции баз данных и применения ИИ. Необходимо провести аудит всех налоговых льгот, оставить только эффективные. Есть все основания предполагать, что поднять долю налоговых поступлений до 25–30% ВВП можно было бы и без повышения ставок.
2. Реформа расходной части: внедрение показателей результативности (KPI) и Value-for-Money, а также публикация регионального и отраслевого разрезов бюджетных данных.
3. Переход к бюджетированию по эффектам: внедрение performance-based budgeting – бюджетирование по результатам, применить zero-based budgeting – ежегодное переобоснование расходов с нуля, а также ввести среднесрочные фискальные рамки с учётом сценариев.
Ожидаемые эффекты:
- Рост доходов бюджета без увеличения налогового давления.
- Снижение коррупции и потерь за счёт контроля и открытости.
- Повышение качества государственных услуг.
- Восстановление общественного доверия к распределению ресурсов.
Такая реформа превратит бюджет в реальный инструмент развития, а не в формальный документ исполнения.
Международные стандарты государственного аудита, такие как ISSAI, предполагают не только проверку цифр, но и анализ устойчивости, полноты и эффективности бюджетной политики. Однако в Казахстане ключевые элементы аудита до сих пор не охвачены. Отсутствует анализ налоговой базы по регионам и отраслям.
Где сосредоточены основные источники доходов? Какие секторы недозагружены? Используется ли потенциал ИТ-отрасли, креативных индустрий, малого бизнеса? Неясно, кто и почему получает налоговые льготы и преференции? Какова сумма упущенных доходов? Проводилась ли оценка их эффективности – создают ли они рабочие места, стимулируют ли инвестиции?
Какова доля экономики «в тени»? Каковы объёмы недополученных налогов? Каковы масштабы вывода капитала через офшоры?
Каков уровень налоговой нагрузки? Насколько продуктивны проверки? Сколько стоит администрирование одного тенге налога?
Где Казахстан находится по сравнению с СНГ, странами ОЭСР и регионами Центральной Азии? Есть ли лазейки в законодательстве, которыми пользуются крупные игроки?
В качестве варианта – трансформация ВАП из технического контролёра в стратегический орган оценки. И конечно, необходимы изменения в Бюджетный кодекс и Закон «О республиканском бюджете», чтобы связать отчётность правительства с фактическими результатами и устранением системных проблем.
Бюджет – это зеркало государства. Он отражает не только сумму доходов и расходов, но и зрелость институтов, подотчётность власти и эффективность управления.Особенно остро стоит вопрос ответственности. Правительство политически отвечает за экономику, но не контролирует основной рычаг – денежную массу. Национальный банк, влияющий на кредиты, курс и ликвидность, остаётся вне сферы парламентского контроля. Это нарушает логику Конституции и подрывает сам принцип общественного договора.
Международный опыт показывает: независимость центробанка совместима с институциональной подотчётностью. Прозрачность и доверие не противоречат стабильности – напротив, они являются её основой.
Реформа бюджета – это не техническая процедура. Это акт обновления общественного договора между государством и обществом. И именно сейчас, когда риски и ожидания высоки, у Казахстана есть исторический шанс реализовать этот переход.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.



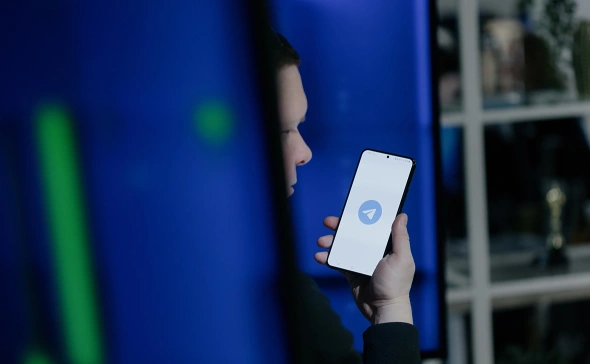

Одно другому не мешает! Почему всегда ИЛИ?🤯