Казахский договорняк: вместо возврата активов – защита инвестиций

В начале сентября президент Токаев предложил переименовать Комитет во возврату активов в Комитет по защите инвесторов и дал премьеру Бектенову на предложения в области инвестиций 10 дней. Прошло гораздо больше времени, но пока премьер молчит. Очевидно, он пока просто не знает, что сказать. Ясно одно – речь идет не просто о смене названия, а о концепции в целом.
«Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства. «Заказ на инвестиции» должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора.
В стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами. Она неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций. В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций – это первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов.
Хочу особо отметить, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на Премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства. Однако бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова «инвестиции». Этот вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения. Поэтому даю Премьер-министру десять дней на выработку конкретных предложений.

Кроме того, поручаю Правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций», – сказал Токаев в своем Послании.
По словам президента, за время работы комитета в казну было возвращено порядка 850 млрд тенге. По сравнению с ранее фигурировавшими сотнями миллирадов долларов это более чем скромный результат. Очевидно, что, как мы и писали, правительство пытается изобрести не репрессивный, а «добровольный» механизм возвращения денег в экономику.
Но тогда неясно – должен ли быть поставлен на утрату или пересмотрен действующий Закон о возврате незаконно выведенных активов, которые был принят в сжатые сроки и показал свои огрехи буквально на следующий день после принятия? Или процесс будет продолжен? Тогда кто отвечает за его реализацию? Значит ли это, что бывший Комитет косвенно расписался в своем бессилии?
Это все уже неважно, если предположить, что достигнута принципиальная кулуарная договоренность о том, что деньги будут возвращаться не как незаконно выведенные активы, а под видом инвестиций. Которые надо защищать. Тем более, что мы уже были свидетелями того, как внезапно капиталы из стран, например, Ближнего Востока вдруг привлекались под «инфраструктурные» проекты и при этом не находили отражения в официальных отчетах.
Повторимся, доказать законность или незаконность капитала – чрезвычайно сложная и дорогая процедура. В то же время, с каждым годом любые большие деньги все больше подпадают под пристальное внимание западных фискальных структур. И тут есть сложная дилемма – либо жить под их постоянным прицелом, либо легализовать их на обоюдно выгодных условиях в своей стране.
Проблема еще и в том, что бегство капитала из Казахстана продолжается. Более 21 млрд долларов ежегодно уходит из Казахстана в виде доходов иностранных инвесторов и процентов по предоставленным кредитам. Впервые за последние годы началось снижение прямых инвестиций. А стране критически нужны деньги.
Аморально или прагматично?
Казахи всегда славились своей способностью договариваться и проявлять в этом особую креативность.
Возвращение незаконно выведенных активов – это, безусловно, не уникальное изобретение Казахстана. Коррупция и незаконные действия олигархата возможны везде, и поэтому отслеживанием приватизаций и возвратом украденных капиталов занимаются власти различных стран мира.
Но, как правило, это процесс прозрачный. Наши власти информацию о возврате активов сделали закрытой, как объяснялось, «с учётом инвестиционных, репутационных, социально-экономических рисков». Понятно, что такое решение значительно отличает Казахстанское правоприменение по возврату активов от общепринятых международных норм.
В документе Всемирного банка упоминается, что сокрытие от общества фактической информации о работе по возврату активов и управлению ими может быть для государства чревато.
– Не стоит рассчитывать на то, что правоохранительные структуры по умолчанию будут обладать навыками и ресурсами, требуемыми для управления активами. Хотя они могут принимать определенные меры в данной области, такие как арест и хранение собственности, которая является вещественным доказательством уголовных преступлений, существующие системы недостаточны для того, чтобы заниматься арестом и наложением запрета и конфискацией широкого спектра активов. Без тщательно разработанного законодательства, мер регулирования и финансирования управления активами даже наиболее успешные системы конфискации будут неэффективными из-за невозможности управлять арестованными активами, – говорится в главе «Управление активами, подлежащими конфискации». – Элемент отчётности важен для эффективной системы управления активами. Он повышает прозрачность деятельности по управлению активами и может также повысить уровень осведомленности общественности о целях и достижениях данной службы.
Еще одна наша особенность – действующий казахстанский закон ориентирован в основном только на использование сил государственных органов (хоть и не без участия международного сотрудничества). Это, в свою очередь, снижает скорость и эффективность расследований краж капитала, особенно в случаях, когда заходит речь о применении коррупционерами сложных международных схем или сокрытия краденных активов путём передачи их аффилированным третьим лицам.
Сейчас в нашем законодательстве по возврату активов прописано, что закон касается только тех лиц, кто занимал ответственную государственную должность или должности в государственных юридических лицах и по оценочным данным имеет активы на сумму более 13 млн МРП (44,85 млрд тенге или 100 млн долларов). Это слишком большое значение, которое значительно сужает круг лиц, на которых может распространяться этот закон. А, значит, многие олигархи так и останутся нетронутыми, даже если их доход на самом деле был получен незаконно и вывезен из страны.
В той же Грузии пошли другим путем, приняв Закон об офшорах» – поправки к Налоговому кодексу, которые призваны вернуть в страны вывезенные в офшорные государства активы. Согласно нему, если какой-либо предприниматель добровольно переведёт свои активы из офшора в Грузию, то ему будут предоставлены налоговые льготы: налог на доход от этих активов не будет взиматься до 1 января 2028 года, налог на имущество – до 2030 года. Но даже такая версия вызвала в Грузии неоднозначную реакцию.
Похоже, казахи выбрали прагматизм вместо морали.
Еще в январе этого года депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщал о наличии у него опасений, что «старый бюрократический аппарат дистанцирует президента Казахстана от работы по возврату активов». Он рассказывал, что ставил на рабочей группе вопрос, чтобы комитет по возврату активов подчинялся напрямую главе государства, но в результате большинство всё равно проголосовало за подчинение Генпрокуратуре. Бапи отмечал, что в работе комитета уже сейчас «наблюдаются проблемы в работе с иностранными юрисдикциями», и ожидал, что Генпрокуратура будет предлагать парламенту внести поправки в закон, но на сегодняшний день этого так и произошло.
А совсем недавно внезапно своим мнением поделился Генпрокурор Берик Асылов на своей странице в соцсети Х, которая, пусть и косвенно, подтверждает нашу версию.
«Главная цель — создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны. В целом в этом направлении мы проводим системную работу — расширяются международные правовые связи и совершенствуются цифровые инструменты (недавно мною были подписаны правовые договоры с Сингапуром и прорабатываются еще ряд проектов с крупными мировыми финансовыми центрами). Защита инвестиций уже итак стала ключевым направлением работы прокуратуры. Сегодня прокуроры сопровождают более 1,5 тыс. инвестпроектов на сумму 87 трлн тенге…
Наша цель — инвестиционный климат, понятный и предсказуемый для каждого инвестора. Думаю, что Комитет по защите прав инвесторов выведет работу на новый уровень – поможет ускорить все начатые процессы по наполнению экономики реальными деньгами, в том числе в виде инвестиций, и обеспечит надежную поддержку бизнеса».
Смущает только одно – почему защита интересов инвестора у нас стала прерогативой Генпрокуратуры, а не правительства?
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.


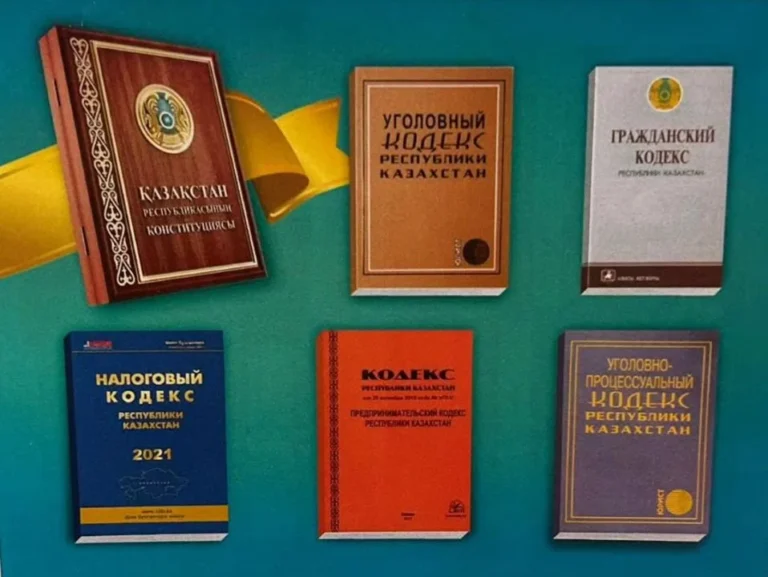


Ұрықтары 100 млн долларға жетпейтін де ұрылар өріп жүр ғой, оларға заң жоқ па? Теневиктер ше?
Плохо следите, investment board создали же