Кто станет инвестиционным магнитом Центральной Азии?

Что на самом деле произошло в США? Чем отличаются инвестиционный климат в Узбекистане и Казахстане? Действительно ли серия громких кадровых перестановок связана с итогами визита казахстанского президента в США? Об этом exclusive.kz поговорил с Закиром Усмановым, экспертом ННИЦ «Билим карвони» (Узбекистан), Эльданизом Гусейновым, сооснователем политического форсайт-агенства «Nightingale Intelligence» (Казахстан), Куатом Домбаем, директором Центра изучения стран Центральной Азии С5 (Казахстан).
– Последняя генеральная сессия Ассамблеи ООН стала одним из самых обсуждаемых событий, и не только в экспертной среде. Как вы оцениваете ключевые итоги поездок наших лидеров в США?
Закир Усманов:
Очевидно, что мы имеем дело с серьёзным прогрессом и настоящим рывком, особенно в геополитическом и геоэкономическом смысле.

В прошлом году во время визита президента Мирзиеева в Китай был подписан инвестиционный портфель на 55 миллиардов долларов. Это уже было серьёзным событием, учитывая, что Узбекистан долгое время воспринимался как закрытая страна, ограниченная во многом ещё со времён первого президента. Для сравнения: в 2003 году президент Каримов пытался привлечь зарубежные инвестиции, но по ряду внешних и внутренних причин привлечь инвестиции тогда не удалось. Сегодня ситуация совершенно иная. Визиты в Италию, Корею, Францию принесли проекты на 10–12 миллиардов долларов каждый. Если смотреть шире, то процесс индустриализации в Узбекистане начался ещё в конце 1990-х, но условной чертой можно считать 2016 год: до и после него – два разных этапа. Главный итог нынешних договорённостей – инвестиции США. Это имеет огромное значение в мировом масштабе. Речь идёт о 100–105 миллиардах долларов. Даже 5–10 миллиардов были бы серьёзным результатом, а 105 миллиардов – это колоссальная сумма, которая открывает новый этап развития Узбекистана и всей Центральной Азии и сигнализирует о том, что регион становится привлекательным для крупнейших игроков и выходит на международные стандарты.
Куат Домбай:
Казахстаном был подписан пакет соглашений на 5,5 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда приходятся на крупный контракт по железной дороге. Это важный проект для нашей экономики. Однако в целом объём прямых иностранных инвестиций в Казахстан снижается. Конечно, эти суммы несопоставимы с масштабами контрактов, подписанных Узбекистаном. Поэтому поездка президента Токаева на фоне успехов Шавката Мирзиёева многими воспринимается как менее значимая.
Здесь важно учитывать ряд нюансов. Например, Мирзиёев заключил контракт на закупку 22 самолётов Boeing Dreamliner. Казахстан же в авиационной сфере идёт по другой модели: у нас закупаются европейские Airbus. Соответственно, вся инфраструктура и техническая база ориентированы именно на них, тогда как в Узбекистане изначально всё строилось под Boeing. Поэтому в этом вопросе нет прямой конкуренции, это просто разные подходы. Более того, расширение узбекского авиапарка и развитие их международных маршрутов может иметь и положительный эффект для Казахстана.
Сейчас у Airbus огромный портфель заказов, и именно это вызывает трудности у казахстанских авиакомпаний – например, у Air Astana проблемы с обеспечением достаточного количества бортов. У Lufthansa тоже из-за нехватки самолётов закрылись некоторые рейсы. Поэтому развитие узбекских авиалиний не ослабит позиции Казахстана, а скорее будет иметь мультипликативный эффект. Экономическое правило простое: когда сосед активно развивается, это отражается и на тебе. Рост туризма в Узбекистане будет способствовать и развитию туризма в Казахстане.
Эльданиз Гусейнов:
Я смотрю на всё это с определённой горечью. СМИ подают события так, будто это дипломатический провал Казахстана и дипломатический успех Узбекистана. Но подобные ситуации уже случались. Казахстан не раз пытался организовать встречу с президентами США – будь то с Трампом или с Байденом – и это не удавалось. В 2023 году произошло практически то же самое: Токаев встречался с Microsoft и ведущими IT-компаниями, но переговоров с Байденом организовать не смогли. А в 2024 году встреча всё же состоялась, но выглядела довольно символично: лидеры сели за полуовальный стол, Байден произнёс двухминутную речь – и на этом всё. Это отражает общее отношение американской внешней политики к Центральной Азии.
Поэтому я считаю, что не стоит придавать чрезмерное значение цифрам и подписанным соглашениям. Мы даже не знаем, приедет ли Трамп в регион, хотя СМИ пишут об этом постоянно. Такой визит стал бы красивым жестом, учитывая стратегическую роль Центральной Азии, но реакции пока нет.
Важно отметить и другой момент: фактор конкуренции между Казахстаном и Узбекистаном усиливается. На экспертном уровне часто утверждают, что её нет, но на деле она существует, и это нормально. Более того, это идёт на пользу региону. Сейчас, например, обсуждаются транспортные коридоры через Афганистан, перспективы рынков Кыргызстана и Таджикистана. Узбекистан сыграл заметную роль в урегулировании приграничных споров, Ферганская долина перестала восприниматься как «бомба замедленного действия». Лидеры трёх стран провели переговоры, позже к ним присоединился Таджикистан, подписав соглашение о добрососедстве в 2020 году.
Именно в этом контексте поездка в США усилила ощущение конкуренции между Казахстаном и Узбекистаном – за инвестиции, транспортные коридоры и многие другие сферы. Вопрос в том, как нам быть в этой ситуации как экспертам и государствам Центральной Азии, понимая, что конкуренция неизбежна.
Если посмотреть на сами цифры, то заголовки звучат красиво: Узбекистан подписал на 100 миллиардов, Казахстан – на 5,5. Но по сути это смешно: контракты по Boeing и по железной дороге – это закупки, то есть это мы платим США, а не они нам. В этом есть определённый элемент абсурда. И в то же время очевидно: регион постепенно движется к конкуренции, и встреча в США это лишь подтвердила.
Готовы ли наши экономики абсорбировать такой объём инвестиций?
Закир Усманов:
По моим наблюдениям, уже к 2015 году в Ташкенте начали заполняться пустующие производства. Сейчас в столице и области не хватает площадей под новые предприятия. Активно развиваются автопром, текстиль, пищевая промышленность, электротехника. Процесс индустриализации во многом идёт при поддержке Китая, с его плюсами и издержками.
Инвестиции в размере 100–105 миллиардов долларов будут реализовываться не одномоментно, а в течение как минимум пяти лет. Этот процесс затронет не только Узбекистан, но и весь регион. Наши проблемы копились десятилетиями, поэтому и решаться они будут в долгую. Я считаю, что Узбекистан способен усвоить значительную часть этих средств, а всё остальное получит мультипликативный эффект для соседей. Важно и то, что речь идёт об инвестициях США, а это повышает привлекательность страны и региона в целом.
С Китаем у нас подписано множество соглашений в сферах машиностроения, текстиля, пищевой промышленности, IT. Американские контракты включают проекты по редкоземельным металлам, химии, машиностроению. Например, Air Products заключила соглашение на 5 миллиардов долларов. Важным фактором стало и присутствие Citigroup, которая работает над повышением инвестиционного рейтинга Узбекистана. Это кардинально меняет картину.
С геоэкономической точки зрения мы наблюдаем тектонический сдвиг. Центральная Азия становится привлекательным рынком благодаря критически важным минералам и новым транспортным коридорам – через Кыргызстан, Афганистан, Азербайджан. Это то, чего не было 10–20 лет назад. Индустриализация Узбекистана будет охватывать соседние страны: Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан. Узбекистан уже инвестирует в афганские месторождения.
Главный результат – снижение зависимости региона как от России, так и от Китая. Развитие сложных отраслей повышает уровень индустриальной сложности экономики. Одновременно усиливается конкуренция между глобальными игроками – США, Китаем и Россией – за влияние в регионе. Это уникальная возможность использовать интерес сразу нескольких крупных держав.
Да, проблем остаётся много, но общий тренд очевиден: Центральная Азия движется к большей экономической самодостаточности. Важно формировать единый рынок – снижать барьеры, унифицировать таможенные правила, чтобы достичь синергетического эффекта. Тогда развитие одной страны будет автоматически подтягивать соседей.
Куат Домбай:
Во-первых, Казахстану пора отказаться от риторики «регионального лидера» в экономике. Темпы роста Узбекистана и особенно Кыргызстана говорят сами за себя. За первые шесть месяцев этого года Кыргызстан показал рост ВВП на уровне 11% – это астрономическая цифра. Узбекистан уже несколько лет растёт на 6,5% и выше.
Есть закон экономики: конкурирующие компании, стоя рядом, усиливают друг друга. То же самое происходит и между нашими странами. Туристы, приезжающие в Узбекистан или Кыргызстан, часто летают через Алматы или Ташкент. Экономики Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана взаимодополняемы. Мы не конкуренты, у нас есть взаимный интерес. Казахстан поставляет в Узбекистан и Кыргызстан мясо, пшеницу, сельхозпродукцию, промышленные товары. Узбекистан же активно реализует инфраструктурные проекты – например, железную дорогу через Афганистан до Пакистана. Летом Токаев подписал соглашение о строительстве другой железной дороги – из Казахстана через Туркменистан и Иран в Пакистан. Это стратегически важные проекты: они открывают регион, ранее замкнутый, и дают выход к рынкам Южной Азии – полутора миллиардам человек и «тёплым морям».
Для Кыргызстана ключевым станет строительство железной дороги из Китая через его территорию в Узбекистан. Это даст стране огромные транзитные возможности. В целом, инфраструктурная связка региона будет иметь мультипликативный эффект для всех участников.
С Россией у Казахстана конкурирующая экономика по основным экспортным позициям – нефть, уран, металлы. Отсюда постоянный отрицательный торговый баланс. С Узбекистаном и Кыргызстаном ситуация иная: здесь торговая структура позитивна. Казахстан поставляет не только сырьё, но и промышленные товары, конечные продукты сельского хозяйства.
Поэтому отвечая на вопрос, сможем ли мы абсорбировать инвестиции – да, сможем. Более того, они будут иметь эффект для всего региона. В туризме, например, это очевидно: люди из Алматы или Бишкека едут в Самарканд и Ташкент, и это приносит деньги всем. Новые производства и компании тянут за собой консалтинг, экспертизу, кадры – и это тоже объединяет нас.
Фактор конкуренции нужно воспринимать как позитивный. Он подталкивает правительства к реальным делам, а не бюрократическим играм. Сейчас инвесторы отмечают разницу: в Узбекистане переговоры проходят проще, а в Казахстане часто затягиваются. Это хороший урок – нам нужно становиться прагматичнее.
Эльданиз Гусейнов:
Я согласен с тем, что и Казахстан, и любая страна Центральной Азии способны усвоить инвестиции, будь то 100, 200 или даже 300 миллиардов долларов. Но когда речь доходит до цифр, не всегда ясно, что именно считать инвестициями, а что кредитами. Даже в условиях Казахстана статистика не даёт однозначного ответа. Например, в прошлом году через катарский холдинг в Казахстан было инвестировано 11 миллиардов долларов, но в официальной статистике этой суммы не видно.
В целом мы часто не знаем, какие договорённости реально превращаются в инвестиции. Подписываются меморандумы, но это ещё не соглашения. Их вес зачастую символический. По опыту общения с дипломатами, в лучшем случае реализуется 10–20% от заявленных сумм. Уже это можно считать успехом. Мы видели громкие заявления со стороны Китая о колоссальных инвестициях в 2023 году, но далеко не всё пока реализовано.
Есть и другая сторона вопроса – восприятие региона инвесторами. Для них ключевым остаётся вопрос стабильности Центральной Азии. Снаружи она часто воспринимается как зона нестабильности – рядом Россия, Китай, Афганистан, Иран. Это формирует осторожное отношение. Когда инвестор узнаёт, что Казахстан является членом ОДКБ или ЕАЭС, реакции бывают разные. Одни видят в этом риски давления со стороны России, другие – наоборот, возможность через Казахстан выйти на российский рынок.
Здесь у Узбекистана есть преимущество. Он не состоит в военных альянсах, не связан интеграционными соглашениями, не вовлечён в торговые конфликты, как, например, Индия. Именно поэтому после саммита ШОС Трамп позвонил именно президенту Узбекистана. Для Запада он выглядит как прагматичный и нейтральный игрок, который старается сохранить независимость.
Казахстан же успешен в другом направлении – китайском. В прошлом году он привлёк колоссальные суммы инвестиций из Китая и стал одним из главных получателей средств в рамках инициативы «Пояс и путь». География играет здесь решающую роль.
Поэтому вывод такой: абсорбировать инвестиции мы можем, но нужно учитывать три фактора. Первое – понимать, сколько реально было вложено. Второе – использовать опыт друг друга: Казахстану полезно учиться у Узбекистана в отношениях с США и ЕС, а Узбекистану – перенимать опыт Казахстана по работе с Китаем. Третье – признавать, что успехи будут в разных сферах, и это нормально.
– Прогнозируются ли какие-либо институциональные изменения в Узбекистане в связи с подписанием такого объёма инвестиций?
Закир Усманов:
Важно отметить, что в последние годы сокращается роль госгарантий: всё больше бизнесменов инвестируют на свой риск. Прямые инвестиции выросли с нескольких сотен миллионов во времена Каримова до нескольких миллиардов сегодня. Но предстоит ещё большая работа по модернизации законодательства.
Экономика Узбекистана в этом году растёт примерно на 7%, однако этого недостаточно. Мой прогноз: после вступления страны во ВТО в 2025 году рост ускорится минимум на 0,5–1% ВВП. ВТО – это переход на международные правила и стандарты, и это серьёзный сигнал для инвесторов. Завершение строительства железных дорог также прибавит к росту ещё до 1%.
В ближайшие два года в стране завершится приватизация крупнейших отраслей и переход на рыночное ценообразование в энергетике. Это тоже даст дополнительный прирост ВВП. Таким образом, совокупный рост может достичь 8,5% и выше. В отличие от Казахстана, Узбекистан ставит задачу не просто поддерживать текущий уровень, а существенно увеличивать объём экономики. В структуре ВВП по-прежнему значим горнодобывающий сектор – золото, уран, но страна уже отказалась от экспорта хлопка и постепенно сокращает экспорт меди, делая ставку на углублённую переработку. К 2030 году цель – полностью уйти от сырьевой зависимости.
– Многие наблюдатели связали серию кадровых перестановок в высших эшелонах власти с итогами визита Токаева в США. Действительно ли это взаимосвязанные факторы?
Куат Домбай:
На мой взгляд, здесь есть прямая взаимосвязь. Президент расценил визит в США как недостаточно проработанный со стороны внешнеполитического ведомства Казахстана, что наложилось на другие обстоятельства вокруг министра иностранных дел Нуртлеу. В итоге он был отстранён, и назначен новый министр – Ермек Шербаев. Многие воспринимают его как более прагматичного политика с опытом работы акимом и практическим подходом к решению вопросов. Одновременно был снят с должности посол Рк с США Ашикбаев.
Но в целом мы, возможно, переоцениваем значение США. Если сравнить цифры, то объём торговли Казахстана с США в прошлом году составил около 5 миллиардов долларов, тогда как с Китаем – 44 миллиарда. Это в 7–8 раз больше. Более того, в этом году торговля с Китаем, вероятно, вдвое превысит объём торговли с Россией. Если три года назад Китай только стал нашим крупнейшим торговым партнёром, то теперь масштабы сотрудничества значительно выросли.
Это наглядно показывает, где должны быть наши приоритеты. Роль США важна, но не определяющая. Даже недавние тарифные ограничения со стороны Вашингтона на казахстанский экспорт не оказали серьёзного влияния. Нам нужно объективно смотреть на картину и выстраивать стратегию с учётом реального экономического баланса.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.


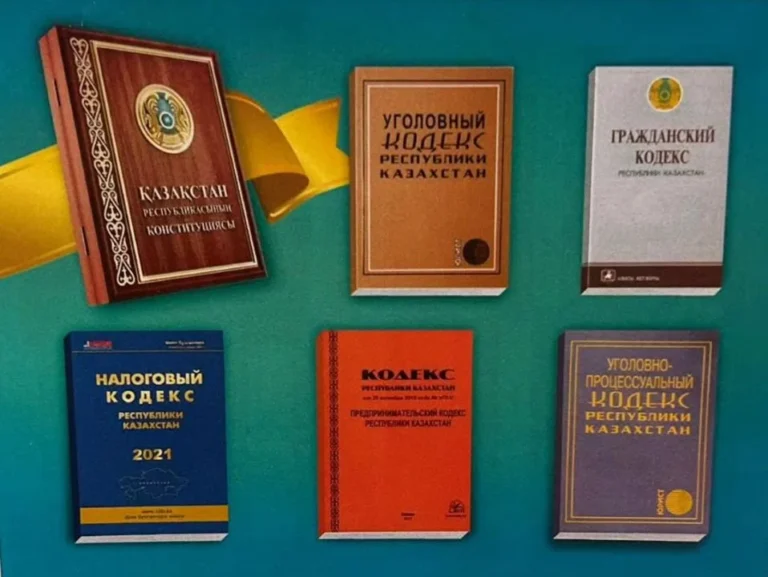


Ребята о чем тут говорить Казахстан в большой жопе. Особенно это касается экономики. Одна болтовня громкие лозунги и слова но дальше этого все просто пшик. Народ нищает с каждым днём всё больше и больше. А говорят что доходы населения ростки не по дням а по часам. У нас пол завода отправляю на б/с по тому что продукция не реализуется и денег нет.