Минсельхоз и Минторг считают экономию казахстанцев на еде «закономерной»

По всей стране продукты сегодня дорожают быстрее зарплат, и вопрос «Что сегодня готовим?» всё чаще превращается в «На что сегодня хватит?». Почему, несмотря на богатые поля и скотоводческие традиции, казахстанцы стали экономить на еде? И правы ли чиновники, утверждающие, что рост цен – это всего лишь «естественная закономерность»?
Согласно исследованию Бюро DEMOSCOPE, проведённому в сентябре 2025 года, тревоги населения по поводу роста цен достигли пика. Почти 75% казахстанцев обеспокоены ростом стоимости продуктов питания. Только 16,5% ответили социологам, что «не очень обеспокоены», и лишь 6,9% заявили, что рост цен их не волнует.
Причины понятны. По данным Бюро национальной статистики, за год продовольственные товары подорожали на 11,7%, а более половины расходов семей (50,6%) теперь приходится на еду. Для страны, которая традиционно считала себя аграрной, это звучит парадоксально. При этом, различные макроэкономические аналитики прогнозируют дальнейший рост инфляции до 12-13% по итогам года из-за ослабления тенге и роста денежной массы.

Всё это приводит к вынужденной экономии жителей страны на питании. Согласно результатам опроса DEMOSCOPE, 62% граждан стали реже покупать мясо. Почти четверть сократили покупки овощей и фруктов, 20,5% – рыбы, 16,9% – молочных продуктов. Даже хлеб и мучные изделия стали предметом экономии для 12% опрошенных.
Многие казахстанцы пишут в соцсетях, что, хоть и не голодают, но пересматривают сейчас все расходы. К примеру, если раньше брали фрукты детям без раздумий, то сейчас смотрят по скидкам.
На этом фоне Международный центр журналистики MediaNet совместно с ACTED при поддержкеправительства Великобритании организовал онлайн-дискуссию о продовольственной безопасности. На ней представители ведомств, отвечающих за сельское хозяйство и торговлю, попытались объяснить, почему же цены всё-таки растут – и почему, по их мнению, это не катастрофа.
В ходе своего выступления заместитель директора Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции министерства сельского хозяйства Шаймерден Ахметов заявил, что рост цен – это «закономерный процесс».
– Так бывает всегда, когда в целом по всем направлениям идёт рост. И связано это не только с внутренними факторами, но и с мировой ситуацией – с экономическими и военными событиями, международными отношениями, которые тоже влияют на стоимость всего вокруг, – считает он.
По его словам, если экономика в целом дорожает, то нельзя ожидать, что аграрное производство будет стоять на месте, – ведь производители должны иметь рентабельность, иначе они уйдут с рынка.
С этим согласился главный эксперт Управления мониторинга и анализа цен Комитета торговли минторговли и интеграции Бидәулет Серіков. Он добавил, что государство не может заставить рынок работать себе в убыток и не вмешивается в механизм ценообразования, а регулирует лишь торговые надбавки на социально значимые продукты.
– Сегодняшний рост цен – это во многом результат прежней политики, когда государство слишком жёстко регулировало производство и удерживало цены искусственно низкими. Мы долгое время сдерживали стоимость продукции — не учитывая её реальную себестоимость, компенсируя разницу через товарные и прямые субсидии. Теперь, когда работают рыночные механизмы, себестоимость формируется естественным образом. И, как вы знаете, в соответствии с Бюджетным кодексом государственные органы не имеют права влиять на себестоимость производства. Мы регулируем только цепочку товарооборота – контролируем торговые надбавки. Сейчас для социально значимых продовольственных товаров установлен их предел – 15%. Поэтому продолжающийся рост цен, который мы видим сегодня, в первую очередь связан не со спекуляцией, а с более объективным, справедливым ценообразованием на уровне производства, – заявил представитель минторговли.
Директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Еркен Наурзбеков назвал причиной роста цен тарифы и инфраструктурные издержки.
– По официальной статистике, только за январь–сентябрь 2025 года холодная вода подорожала на 84%. А ведь это один из ключевых ресурсов для переработки, наряду с электроэнергией и ГСМ. Когда дорожают все входящие, – вода, энергия, топливо, – себестоимость продукции не может стоять на месте. Она неизбежно растёт. У нас, к сожалению, ничего никогда не дешевеет, – сказал он.
Но действительно ли государство бессильно?
По словам Еркена Наурзбекова, государство должно начать защищать собственный рынок. Сейчас, говорит он, казахстанские производители проигрывают не только из-за тарифов, но и из-за слабого контроля импорта. В страну под видом отечественной продукции нередко заходит дешёвый контрафакт: патока вместо мёда, восстановленное молоко вместо натурального и так далее. Такие товары обходятся в три-четыре раза дешевле и вытесняют с полок местных производителей.
Неравные условия усиливает и разница в господдержке в регионе. В странах ЕАЭС, – России и Беларуси, – уровень субсидирования аграрного сектора, по его словам, в полтора-два раза выше, чем в Казахстане. При этом именно эти страны остаются основными конкурентами казахстанских фермеров. И отмена действующих субсидий или переход к новым схемам финансирования без выравнивания условий приведёт только к потере конкурентоспособности.
К росту себестоимости добавляется и постоянное давление со стороны регуляторики. Повышение тарифов естественных монополий, ужесточение санитарных требований, налоговое администрирование – всё это напрямую бьёт по производству. Даже если фермер сумел вырастить и переработать продукт, ему остаётся преодолеть последний барьер – торговые сети. Малые и средние предприятия до сих пор с трудом попадают на полки супермаркетов, а те, кто попадает, вынуждены работать с минимальной прибылью.
В этих условиях, говорит Наурзбеков, ожидать снижения цен бессмысленно: пока правила игры остаются теми же, продукты дешеветь не будут.
Журналист и аграрный эксперт Кирилл Павлов в свою очередь напомнил, что рост цен определяется не только себестоимостью производства, как заявили представители госорганов, но и тем, как устроена система реализации продуктов. Основная прибыль, по его словам, формируется не на самих фермах, а между фермером и магазином.
– Мне было бы интересно понять, как именно государство собирается регулировать торговые наценки. Мы много говорим о контроле себестоимости и поддержке фермеров, но маржа сельхозпроизводителя в разы ниже, чем у продавца. Даже с установленным лимитом в 15% наценки для социально значимых товаров всё обходится очень просто: если между фермером и магазином есть две аффилированные компании, каждая добавит по 15% и в итоге выходит уже 30%. На практике никто это не контролирует. Мы прекрасно видим, кто и как поставляет продукцию в торговые сети. Когда один и тот же собственник контролирует и рынок логистики, и саму сеть, говорить о реальном контроле государства смешно. Да, СЗПТ можно удерживать, но это узкий сегмент недорогих товаров. А всё остальное, – мясо, масло, мука, макароны, – так и растёт в цене без всяких ограничений, – указал эксперт.
Он подчеркнул, что именно в этой непрозрачной цепочке и теряется контроль над конечной ценой. Государственные меры стабилизации в таких условиях малоэффективны: они ограничивают стоимость лишь на бумаге, но не влияют на реальные механизмы формирования цены.
На это представитель министерства сельского хозяйства Шаймерден Ахметов ответил, что вопрос посредников поднимается уже «сто лет» и за это время никто не смог найти решение.
– Не все фермеры хотят или могут заниматься хранением, доставкой, торговлей. Они производят, а дальше начинается своя сфера – логистика, сбыт. Убрать посредников невозможно: без них полки будут пустыми, а производитель не сможет сбыть продукцию, – сказал он.
По его логике, система, в которой посредники стали «неизбежным злом», воспринимается чиновниками как нечто естественное. Получается, что после десятилетий обсуждений министерство по-прежнему лишь объясняет, почему изменить ничего нельзя. Но при этом на прямую критику Павлова о чрезмерных торговых наценках и нерабочем контроле посредников Ахметов фактически не ответил, ограничившись только замечанием, что министерство торговли «установило надбавки и контролирует их», чтобы «цены не слишком увеличивались».
Но, похоже, следить за тем, «чтобы цены не слишком увеличивались» удаётся всё хуже. Даже при действующих ограничениях рост продолжается не только из-за торговых надбавок, но и потому, что значительная часть продовольствия в страну попросту ввозится. Казахстан остаётся зависимым от импорта по ключевым позициям, включая продукты из так называемого «критического перечня продовольственной безопасности», такие как чеснок, морковь, капуста, рожь. По данным министерства торговли, только за первые семь месяцев 2025 года импорт овощей вырос на 85,6% и достиг почти 100 миллионов долларов.
Эксперт по мясному животноводству Арсен Исламов отметил, что вместе с иностранными товарами Казахстан фактически ввозит и чужую инфляцию. Закупая продукты в России или Беларуси, Казахстан перенимает их рост цен и тем самым увеличивает собственные издержки. Это означает не только рост цен, но и потерю контроля над собственным продовольственным рынком.
Ситуацию, по его словам, усугубляет и то, что рынок деформирован постоянными государственными мерами – квотами, ограничениями, временными запретами. К примеру, весной власти пытались сдержать рост цен на мясо временным запретом на вывоз крупного рогатого скота. Но такие меры не решают проблемы системно, а, напротив, создают новые: делают рынок непредсказуемым, а для производителей – ещё и убыточным.
Исламов подчеркнул, что нынешние проблемы – следствие долгих лет, когда сельское хозяйство вообще не считалось приоритетом. В нулевые годы, отметил он, в стране господствовало убеждение, что всё можно купить за нефтедоллары. Но после геополитических изменений стало ясно, что без собственной продовольственной базы Казахстан остаётся уязвимым.
– Россия ещё десять лет назад объявила курс на продовольственную безопасность, а мы только начали что-то подобное формировать. Когда вступали в ЕАЭС, нам обещали рынок на 200 миллионов человек, но оказалось, что предложить мы почти ничего не можем. В итоге наши полки заняли соседи, – сказал он.
И всё же, несмотря на критику и разные взгляды, участники дискуссии сошлись в одном: поддержка отечественных производителей – ключ к стабильности.
Исследование DEMOSCOPE также подтвердило, что 51,9% граждан считают именно это главным направлением политики в сфере продовольственной безопасности, ещё 47% – повышение прозрачности и борьбу с коррупцией. Регулирование цен, напротив, назвали приоритетом лишь 27,3% респондентов.
Сегодня, по словам Арсена Исламова, ситуация уже начала меняться: развивается мясная и молочная отрасли, строятся новые фермы и перерабатывающие заводы, на уровне бизнеса начинает формироваться интерес к долгосрочным проектам. Если этот темп сохранится, через несколько лет Казахстан сможет не только обеспечить внутренний рынок, но и выйти на экспорт в Узбекистан и другие страны Центральной Азии.
Между тем, парадокс казахстанской продовольственной политики становится всё очевиднее. С одной стороны, граждане вынуждены экономить на базовых продуктах. С другой – они все ещё верят в способность страны прокормить себя.
По данным того же исследования, 64% казахстанцев уверены, что в ближайшие пять лет Казахстан сможет обеспечить внутренний рынок собственными продуктами. Каждый третий – полностью уверен в этом. К тому же, как выяснилось, 45% граждан оценивают уровень продовольственной безопасности как высокий, а 35% – как средний.
Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.



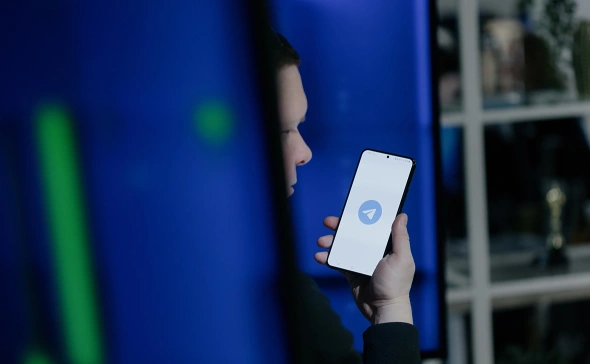

Почему бы посадить депутатов и министров на «среднюю» зарплату и убрать полностью гос обеспечение. Может тогда начнут приходить мысли что можно и нужно сделать, а не » это естественно»