Почему Казахстан боится своей силы?
Сырьё считается «стыдным», госденьги – «спасением», стратегии – «бумагой», человеческий капитал – «утечкой», а реформы – «ритуалом». И всё это в условиях, когда изменения законов происходят быстрее, чем появляется их смысл.
Правительство Казахстана много говорит о необходимости диверсификации экономики, развития инноваций, стимулирования экспорта и укрепления малого бизнеса. Однако на практике страна продолжает жить на старом экономическом фундаменте – сырьевом. И даже это сильное преимущество используется неэффективно. Власть как будто стесняется ресурсной зависимости, не создаёт необходимых институтов, не формулирует стратегий, не устраняет барьеры для бизнеса. В результате страна продолжает терять время, таланты и инвестиционные возможности.
Недра – один из главных источников силы казахстанской экономики. Они обеспечивают 80% экспорта, 90% поступлений в Нацфонд и свыше половины всех бюджетных доходов.
Однако вместо того, чтобы превратить это преимущество в стратегию роста, государство обходит его стороной. Ресурсная база не сопровождается институциональной поддержкой, а сама тема недропользования выпадает из фокуса экономического планирования. Такое молчание порождает уязвимость: страна обладает ключевым активом, но не умеет с ним работать.
– Мы должны строить нашу долгосрочную политику, основанную на нашей, богом данной, девятой территории в мире, – выступил на площадке Astana Open Dialogue председатель правления ассоциации «Тау-Кен» Айбар Даутов.
По его мнению, отсутствие в структуре правительства министерств «нефти и газа» или «твёрдых полезных ископаемых» отражает подсознательные комплексы, которые сидят у власти в голове.
– У нас считается это табу, мы не хотим быть сырьевыми какими-то придатками и так далее. Причём без объяснений. Я же считаю, что очень нужна психотерапия людям, принимающим решения. Не надо стесняться недр. Как мы можем этого стесняться? Мы должны этим гордиться, это наша сильная сторона, и мы должны вести соответствующую экономическую политику, – заявляет Даутов.
По словам эксперта, признание сырьевой модели – не шаг назад, а отправная точка для нового промышленного уклада, поскольку именно ресурсы являются стратегическим преимуществом Казахстана на ближайшие десятилетия. Всё потому, что ожидаемый планомерный переход различных стран на электромобили, электродвигатели и зелёную энергетику кратно увеличит спрос на металлы, добываемые в нашей стране.
С этим согласился и председатель правления Kazakh Invest Ержан Елекеев. Он подчеркнул: недра – по-прежнему ядро экспортного потенциала, хоть конкурентное преимущество Казахстана заключается не только в ресурсах, но ещё и в геополитике и логистике.
– Есть четыре категории инвесторов, которые приходят в Казахстан. Первая категория это сырьевое преимущество Казахстана. Это как раз подтверждает тезис господина Даутова, – отметил он.
Депутат мажилиса Екатерина Смышляева, в свою очередь, призвала отказаться от стереотипов, по которым сырьё воспринимается как нечто «устаревшее». Она напомнила, что в мировой экономике нефть, газ и металлы остаются системообразующими секторами, а их освоение и переработка требуют высоких технологий.
– Действительно, мы в последнее время склонны занижать уровень того, чем мы всегда занимались и будем заниматься в ближайшее время… Значение ресурсов для нас никуда не уходит, оно будет и будет еще много лет, надеюсь, насколько хватит этих самых ресурсов, – подчеркнула депутат. Она также добавила, что управление недрами в будущем будет всё больше опираться на информационные системы и «интернет вещей».
Эксперты соглашаются: несмотря на наличие недр, государственная система не сопровождает их развитием. Отсутствие отдельного органа, отвечающего за политику в сфере твёрдых полезных ископаемых, отсутствие единой цифровой базы, институциональная размытость полномочий и слабая инвестиционная логика – всё это превращает объективное конкурентное преимущество в уязвимость. А где нет устойчивой политики – нет и механизмов для поиска новых ресурсов.
Государственная система не создаёт условий для полноценного развития геологоразведки. Особенно это касается юниорских компаний – небольших частных игроков, специализирующихся на первичной разведке месторождений. Именно они в странах с развитой недропользовательской политикой отвечают за 70-80% всех новых открытий.
– Никто в упор не видит роль юниорских компаний. Все льготы у нас существуют только для крупных и очень крупных компаний… Но они все начинаются от 100 миллионов долларов, от 500 миллионов долларов инвестиций и так далее. Наше экономическое регулирование в секторе недропользования выстроено таким образом, что никакой МСБ, никакие юниоры не приветствуются, – подчёркивает Айбар Даутов.
При этом, если посмотреть на успешные недропользовательские проекты последних 30 лет в Казахстане, – в их основе зачастую стояли юниоры. Но сейчас это забыто. До сих пор в стране отсутствует даже базовая экосистема для развития деятельности таких компаний: нет специализированных инструментов поддержки, нет адаптированной законодательной базы, нет простого доступа к геоданным.
Ситуацию усугубляет состояние геологических данных: они устарели, засекречены и децентрализованы. Геологическая документация до сих пор не была оцифрована, геологические сведения и научные разработки после 1981 года не были обобщены, советские нормы секретности в отношении геологических данных продолжают действовать, соответственно, и цифровой геопортал всё ещё отсутствует. И это всё при том, что без актуальных и доступных данных невозможно ни разведку начать, ни инвестора привлечь…
Спикеры Astana Open Dialogue отмечают, что для оживления юниорского рынка нужен целый комплекс мер: от снижения административных барьеров до упрощённого доступа к разведочным участкам. Также необходимо страхование рисков и возможность выхода юниоров на биржу. Без этого страна продолжит «доедать» советское наследие и упускать возможность попасть в новую сырьевую волну, связанную с зелёным переходом.
Аналогичная логика прослеживается и в более широком контексте: страна, в целом, не знает, куда движется, не потому что у неё нет ресурсов, а потому что нет маршрута, то есть долгосрочного экономического плана, работающего на горизонте хотя бы 10-15 лет.
В попытках уйти от сырьевой экономики власти Казахстана регулярно анонсируют реформы, национальные проекты и «новые точки роста», – но ни один из этих документов не создаёт устойчивой логики развития. Политика по-прежнему строится от кейса к кейсу, с оглядкой на внешнюю конъюнктуру или внутренние управленческие предпочтения.
– К сожалению, пока нынешнее правительство не показывает план своих действий, как выходить из кризиса. Мы находимся, наверное, в кризисе, но как мы выходить будем, никому неясно, – признал депутат Айтуар Кошмамбетов.
Он подчеркнул, что речь даже не о стратегиях на бумаге, а о фактическом отсутствии экономического курса. Вопрос «Куда идёт страна?» годами остаётся без ответа не только для бизнеса, но и для самих чиновников. Как следствие – государственная политика оказывается в положении «реакции», а не проактивности.
Директор центра DESHT Куаныш Жаиков назвал это «состоянием системного дрейфа». По его словам, в Казахстане не просто отсутствует стратегия – отсутствует даже культура стратегирования. В результате возникают десятки инициатив и ведомственных программ, которые конкурируют друг с другом или дублируют функции. Это приводит к фрагментации ресурсов и потере фокуса. По его мнению, из-за отсутствия фундаментальных основ, таких как верховенство права и стабильность правил, государство не способно сфокусироваться на главном, распыляя ресурсы.
– Стратегия – это не так, что за все хорошее против всего плохого. Стратегия – это когда вы ради самого главного отказываетесь от очень хороших вещей. Вот тогда у вас есть стратегия. А если вы делаете все подряд, распыляетесь… мы просто двигаемся, как придется, – добавил Айбар Даутов, согласившись с остальными спикерами.
В итоге без определения приоритетов ни одна политика господдержки или реформирования не будет работать. Даже правильные решения не принесут результата, если они не будут встроены в логичную систему целей, ресурсов и институтов.
Но ещё одна проблема Казахстана заключается в том, что даже если бы стратегия появилась, её реализация упиралась бы в следующий системный сбой – непредсказуемость.
Любая попытка двигаться вперёд окажется хрупкой, если сами правила игры будут постоянно меняться. А сейчас в Казахстане правила игры меняются с такой скоростью, что любой инвестиционный горизонт оказывается бессмысленным. Ни один бизнес, ни один проект не может быть уверен, что через год будет работать в тех же условиях, в которых начинался.
По данному поводу выступил Куаныш Жаиков. Он отметил, что суть верховенства права заключается не только в работающих институтах вроде судов, но и в предсказуемости и стабильности правил игры, чего в Казахстане нет.
С 2017 по 2022 год в Гражданский кодекс вносились изменения 59 раз, в Уголовный – 41, в Административный – 72. И это – только ключевые кодексы. Региональные нормативные акты, подзаконные акты и ведомственные инструкции меняются ещё чаще.
– Только вы адаптируетесь к правилам, государство говорит: «так, правила нас не устраивают, давайте еще раз будем менять правила…». Но само изменение правил, даже если у нас благие намерения, – это уже плохо. Из-за этого вы всё время находитесь в каком-то бесконечном процессе падения, – отметил Куаныш Жаиков, подчеркнув, что отсутствие предсказуемости подрывает сами основы экономической рациональности.
Александр Данилов, сооснователь Astana Open Dialogue и модератор дискуссии, привёл яркий пример последствий такой нестабильности.
– Мы можем сейчас точку роста найти, начать, например, в горнометаллургический комплекс больше вкладывать. Но через два года, если мы поменяем своё мнение, это будет бессмысленное вложение, как это достаточно часто и бывает, – подчеркнул он, добавив, что особенно большие трудности для бизнеса создают постоянно меняющиеся налоговые режимы, правила субсидирования и требования к отчётности.
Кроме того, участники дискуссии высказались по поводу того, что изменения часто не системны и не связаны с обратной связью от бизнеса. Внедрение новых норм сопровождается минимальной апробацией, а оценка регулирующего воздействия в Казахстане чаще всего формальна.
Таким образом, никакие экономические реформы, предназначенные для ухода от сырьевой экономики, не смогут закрепиться, пока в стране сохраняется политика нормативной импровизации.
В отсутствие стратегии и стабильности остаётся только один инструмент воздействия – финансовое вливание в несырьевой сектор: государство пытается подменить систему деньгами. Попытаться осуществить вместо реальных реформ – субсидии, вместо наращивания конкуренции – дотации, вместо формирования среды – ручное управление.
Но сработает ли это? Увы, – нет. Как отметил Айтуар Кошмамбетов, всё потому, что «поддержку» из года в год получают одни и те же субъекты бизнеса, а логика перераспределения субсидий не связана ни с целевыми показателями, ни с экономической отдачей.
Программы господдержки скорее имитируют участие государства в развитии, чем действительно стимулируют рост. В качестве примера депутат привёл ситуацию с сельским хозяйством, где, несмотря на многолетнее субсидирование одних и тех же направлений, значимого роста урожайности, экспорта или переработки не наблюдается, фактически сохраняется статус-кво.
При этом, такая проблема наблюдается не только об агросекторе. В квазигосударственном секторе проблема ещё острее. По словам Кошмамбетова, только в 2023 году на поддержку квазигоссектора было потрачено 11,4 трлн тенге. Однако результатом стали не системные изменения, а имитация проектов.
– Совсем недавно мы на комитете заслушивали 17 суперпроектов, из которых, мне показалось, больше 10 по факту вообще не исполнится. Тоже очень печально, – отметил он.
Куаныш Жаиков в свою очередь назвал такую модель «псевдоразвитием» – когда вместо оценки эффективности трат по факту реализуется поддержка избранных. Он подчеркнул, что в этой логике даже инструменты развития, такие как Damu, превращаются в механизмы финансового распределения, а не роста. Жаиков считает, что государство слишком много занимается тем, чем не должно, и недостаточно – тем, чем должно, что подрывает основы для реального развития, которое нельзя заменить финансовыми вливаниями.
Таким образом, Казахстан не отстал от мира, как об этом зачастую говорят, – он просто не решается воспользоваться тем, что уже у него есть. Богатые недра, талантливые предприниматели, выгодное географическое положение – всё это может работать на будущее. Но вместо этого страна предпочитает искать новые смыслы, не распорядившись старыми.
Что же тогда делать?
Эксперты представили свои предложения, – не столько реформаторские, сколько здравые и реалистичные. Их объединяет одно: учитывая актуальную политическую ситуацию, они требуют не политической революции, а всего лишь минимальной институциональной воли и последовательности.
Первое и ключевое – это восстановление способности к стратегированию. Куаныш Жаиков предложил выстраивать национальную систему промышленного прогнозирования по аналогии с институтами Fraunhofer (Германия) или KISTEP (Южная Корея). Речь идёт не о предсказаниях, а о профессиональных сценариях: какие отрасли нужно развивать, куда пойдут мировые рынки, какие компетенции стране понадобятся через 10 лет.
Второе – это перезапуск инновационной экосистемы через запуск системы «экономических вызовов». Речь идёт о модели, при которой бизнес и учёные получают задания от государства или крупных компаний и решают их в формате конкурсов с грантами, контрактами и налоговыми стимулами. Такая система успешно работает в Южной Корее, Израиле, Эстонии.
Третье – это поддержка малого бизнеса, особенно в регионах. Например, при помощи системы «патриотических тендеров», в которых предприятиям из Казахстана с выстроенной горизонтальной интеграцией автоматически даётся преимущество в закупках (условно, +20% маржи при наличии консорциума из 5 и более региональных малых бизнесов).
Четвёртое – реформа системы субсидий. Спикеры сошлись в одном: каждая единица господдержки должна быть условной, привязанной к чётким KPI и срокам. В случае невыполнения – деньги возвращаются.
Наконец, пятое – это усиление роли юниорских компаний и формирование для них отдельной политики: цифровизация геоданных, упрощённый вход в недропользование, венчурные схемы финансирования, в том числе через биржевые инструменты.
Все эти шаги не требуют запуска нового министерства или десятков указов. Они требуют только устоявшегося понимания, что для роста экономики Казахстана от правительства требуется всего лишь способность признать имеющиеся сильные стороны страны, отказаться от имитации собственных действий и принять, наконец, стратегический курс.
Но пока политика боится называть вещи своими именами, реформы теряют опору, а закон меняется чаще погоды – никакие идеи о «точках роста» не сработают. Ведь стратегия начинается не с следованием за трендами, а с осознания собственной силы. Пора перестать её бояться.
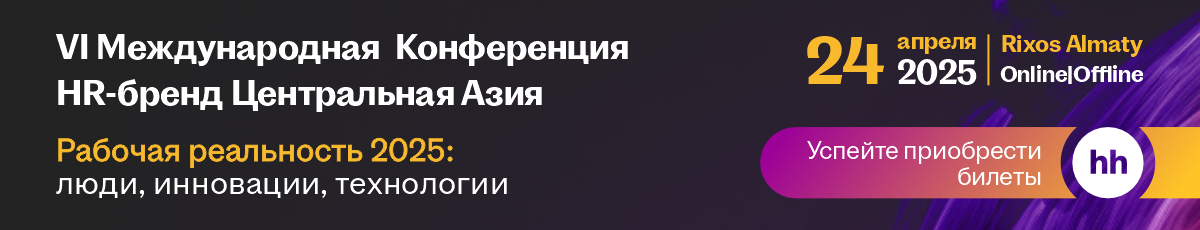

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы 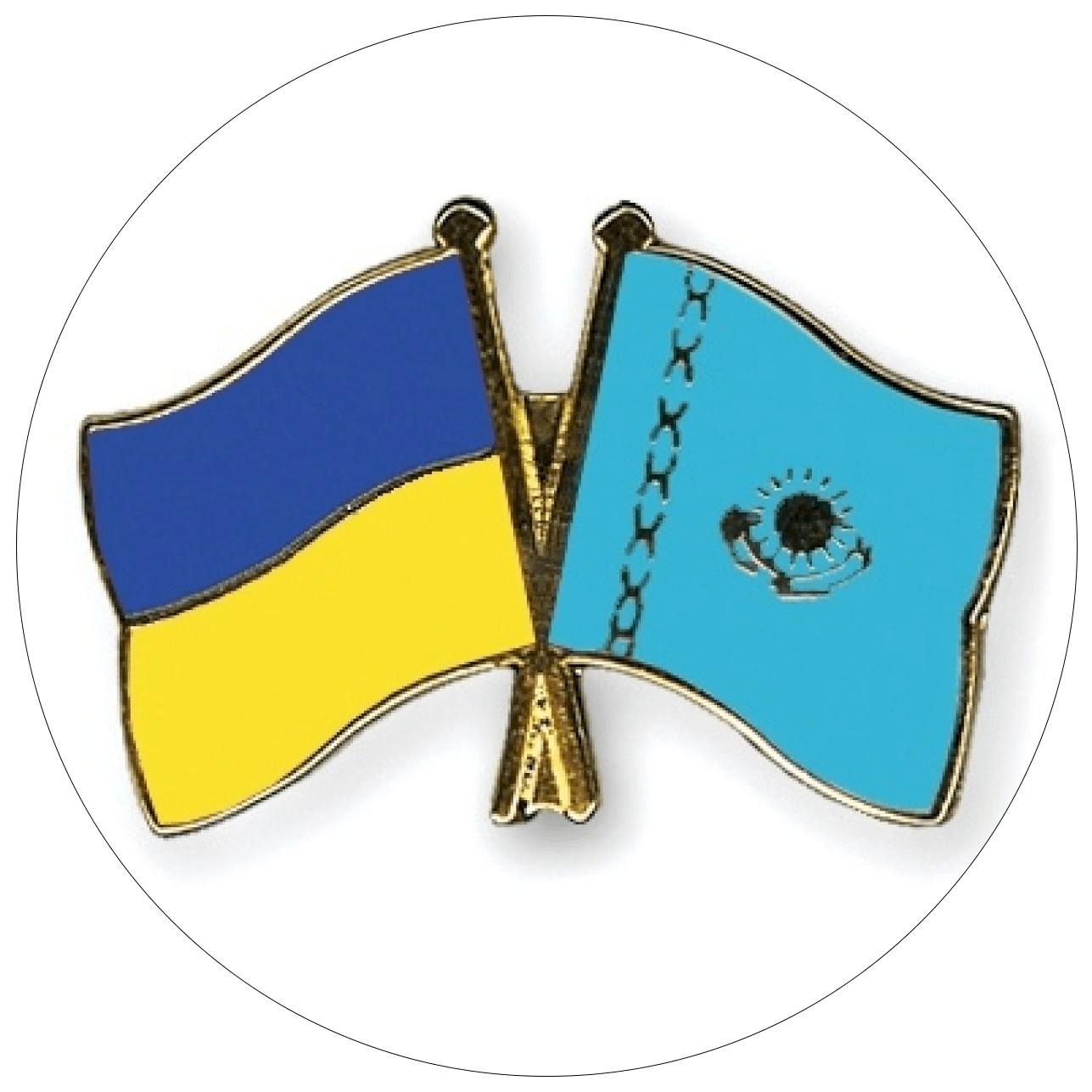 Асар в Украине
Асар в Украине 


Комментариев пока нет