Смогли ли депутаты защитить перед правительством интересы граждан?
После череды выступлений, встреч с бизнесом и горячих споров проект нового Налогового кодекса был одобрен в первом чтении. На первый взгляд, между мажилисменами и правительством оказался достигнут компромисс. На самом же деле итог заседания – это временное перемирие. Ключевые разногласия всё ещё не устранены, и многие принципиальные вопросы, – о поддержке малого и среднего бизнеса, об отраслевых приоритетах, о социальной справедливости, – по-прежнему остаются без внятных ответов.
Рассмотрение в мажилисе проекта нового Налогового кодекса началось в 10 утра и продолжалось четыре часа. Вопросов и реплик было так много, что депутаты и представители правительства даже добровольно отказались от обеденного перерыва. Всё потому, что этот законопроект за несколько месяцев вызвал резонанс как у вовлечённого в политику экспертного сообщества, так и среди представителей бизнеса, отраслевых объединений и рядовых граждан.
Причина такого ажиотажа, как известно, – масштаб последствий принятия этого документа. Ведь новый Налоговый кодекс способен глобально повлиять не только на структуру госдоходов и взаимодействие бизнеса с властью, но и на повседневную жизнь обычных казахстанцев: на наличие рабочих мест, на уровень получаемых на руки зарплат и, в конце концов, на ценники в магазинах.
Планируемые изменения с трибуны в мажилисе представил министр нацэкономики Серик Жумангарин, ставший лицом этой реформы. Затем он парировал десятки вопросов разных депутатов, – реагировал на их обеспокоенность, с кем-то спорил, кого-то убеждал. Иногда – успешно, чаще – с оговорками.
В очередной раз вице-премьер попытался заверить, что благодаря этой налоговой реформе в госбюджет ежегодно начнёт дополнительно поступать 4-5 трлн тенге, которые можно будет использовать на развитие страны, а рост инфляции из-за новых ставок якобы не превысит 2,5-3% и будет краткосрочным.
Тем временем, согласно последним результатам опроса DEMOSCOPE о социально-экономической ситуации в Казахстане, уже сейчас 68,6% граждан заявляют, что ощущают значительный рост расходов на продукты и услуги и 51,5% не уверены в своём финансовом благополучии на ближайшие 12 месяцев. Обеспокоенность граждан уровнем оплаты труда выросла с 37,6% в ноябре 2024 года до 47,4% в марте этого года. В этой связи 56,7% казахстанцев из числа опрошенных социологами выступают против поднятия ставки НДС, опасаясь, что это повлечёт за собой дальнейший рост цен.
Несмотря на это, Жумангарин продолжает оптимистично внушать депутатам, мол, «Это заблуждение, что цены везде поднимутся». Правда внятных аргументов и конкретных расчётов, несмотря на требование президента проводить любые нововведения на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии, почему-то министр по-прежнему не приводит. Лишь заявляет об «обеспечении правительством достаточного контроля, чтобы цены не росли как на дрожжах». А кто понесёт ответственность, если все эти надежды так и останутся несбыточными, он, конечно же, не говорит. Напоминает прошлогоднюю историю с тарифами на электроэнергию…
Впрочем, по итогу обсуждений в мажилисе внимание привлёк не только вопрос о расчётах эффектов реформы, который мы и так поднимаем ещё с января, но и тема достигнутых «компромиссов».
Напомним, что основным камнем преткновения в налоговой реформе стало предложение правительства снизить порог для обязательной регистрации по НДС с текущих 78,6 млн тенге до 15 млн тенге. Эта инициатива вызвала резкую критику со стороны депутатов (причём, как неожиданно выяснилось за день до обсуждения реформы, решение это не понравилось даже правящей, обычно сверхлояльной к предложениям правительства фракции «Аманат»), национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и представителей МСБ.
Многие указали на то, что такой подход ударит в первую очередь по мелким предпринимателям и вынудит их либо закрыться, либо перейти в тень. Бизнес-ассоциации предупреждали о «массовом закрытии ИП», депутаты – о «непропорциональной нагрузке на малые формы хозяйствования».
Глава «Атамекена» Райымбек Баталов, отвечая на вопрос журналистов прямо перед заседанием мажилиса, отметил, что «снижение порога не даст дополнительных платежей», так как по реальным оценкам в пороге между 15 и 79 млн находится всего 5% оборота по НДС. Расчёты НПП показывали, что даже при полной уплате НДС всеми новыми плательщиками бюджет получил бы не более 160 млрд тенге – сумма, не компенсирующая потенциальный ущерб для МСБ.
Дискуссии в мажилисе показали, что уязвимость микробизнеса признают даже сторонники необходимости ужесточения фискальной дисциплины. Предложение о резком снижении порога вызвало практически общий парламентский протест, объединив разные фракции.
В результате депутатам удалось настоять на компромиссе: хоть ставка НДС уже в любом случае и поднимется с 12% до 16%, порог для постановки на учёт правительство согласилось установить на уровне 40 млн тенге. Серик Жумангарин прямо назвал это «уступкой» и как бы в упрёк критикам упомянул, мол, из-за этого решения «теряются 160 тысяч новых налогоплательщиков и около 400 миллиардов тенге потенциальных поступлений». Почему его цифры и расчёты «Атамекена» так сильно друг с другом не совпадают, осталось неясным.
Конечно же, такой компромисс временно снизил накал напряжения. Но принципиальный вопрос баланса между фискальными интересами и устойчивостью МСБ он не решил.
Принятое решение многие расценили скорее как политический жест, чем как экономически просчитанное решение. И от просмотра трансляции пленарного заседания сложилось впечатление, что согласованная политическая тактика принятия этой реформы – это отложить сейчас наиболее острые противоречия, не устраняя все существующие до конца.
Дело в том, что, формально, отказавшись от резкого снижения порога по НДС, бизнесу пошли навстречу. Но в то же время министр вдруг объявил, что было принято решение сделать «открытие новых ИП более усложнённым процессом». По его словам, меры будут направлены на тех, кто ранее уже открывал ИП, но не вёл деятельности, чтобы ограничить возможность повторной регистрации с целью ухода от налогов.
Однако без достаточной мотивации к официальной регистрации (например, доступных льготных режимов) такие меры могут сыграть обратную роль и подтолкнуть часть предпринимателей в тень, особенно на фоне роста общей налоговой нагрузки.
Пока этот блок реформы остаётся на уровне заявлений. Конкретные формулировки, содержащиеся в законопроекте, публично не представлены, – было лишь сказано, что «соответствующие нормы у нас готовы». Но это уже создаёт не ясность, а новое напряжение. Получается, что сейчас государство смягчило одну запланированную нагрузку, но может в последующем ужесточить другую.
Ещё один важный момент: одобренный в первом чтении проект нового Налогового кодекса предусматривает сокращение числа специальных налоговых режимов (СНР) с семи до трёх. Планируется оставить только режимы для самозанятых, ИП по упрощённой декларации и фермерских хозяйств, остальные упраздняются.
При этом, вместо разрешительного перечня видов деятельности для СНР вводится запретительный список: все виды деятельности разрешены на спецрежиме, за исключением прямо запрещённых.
– Всё, что не запрещено, – разрешено, – лаконично прокомментировал Жумангарин.
За эту формулировку активно выступала партия Respublica, которая поспешила после заседания в мажилисе отпраздновать в своих соцсетях победу, объявив, что это решение «спасает 1,7 миллиона предпринимателей и 4,5 миллиона работников от неминуемого закрытия».
Сама по себе новость, конечно, хорошая, – тут спору нет. Но откуда уверенность в именно таких цифрах, не совсем понятно. Ведь то, как этот подход был представлен Жумангариным, тоже не добавляет никакой определённости: какие именно отрасли окажутся «запрещёнными», он так и не сообщил. А, значит, по-прежнему есть риск, что виды деятельности тех предпринимателей, чьи права депутаты отчаянно пытались защитить, вскоре попытаются внести в список «запрещённых». С обоснованием, мол, «не заслужили они СНР». Тем более, что министр упомянул в своём выступлении: «количество видов деятельности будет регулироваться правительством». То есть, по логике госаппарата, согласовывать в будущем изменения списка «недостойных» с депутатами не нужно будет.
Особенно уязвимыми в такой ситуации становятся небольшие предприятия, работающие в сфере B2B, чьи права правительство ни во что не ставит, судя по внесению изменения, что «операции В2В могут осуществляться только в рамках спецрежима».
Не менее важные вопросы, – о налоговой политике в отношении культурных и медийных сфер, – прозвучали ближе к финалу обсуждения. Несмотря на заявления руководства страны о важности креативной экономики, в проекте кодекса эта сфера не упоминается, и министр в своем выступлении о ней практически не говорил (только вскользь упомянул про освобождение книгопечатания от уплаты НДС). А мы напомним, что совсем недавно представители независимых театров публично заявили, что при неучитывании в новом Налоговом кодексе особенностей их бизнеса они окажутся на грани закрытия. Но на вопрос одного из депутатов по этому поводу министр нацэкономики ответил расплывчато: «По креативной экономике идут переговоры. Это необходимо исследовать в полном объёме». Иными словами – никакого решения пока нет.
Отдельно прозвучала тема поддержки СМИ. Депутат Нартай Сарсенгалиев предложил освободить отечественные издания от НДС, аргументируя это вопросами информационной безопасности, поддержкой региональных редакций и необходимостью конкуренции с иностранными платформами. Он указал на то, что с ростом ставки до 16% выживаемость многих редакций окажется под угрозой. В ответ министр указал, что компании с оборотом менее 40 млн тенге и так не платят НДС, поэтому и никаких послаблений не предусмотрено. Хотя до этого полное освобождение СМИ от НДС звучало в качестве одной из внесённых правительством поправок.
Таким образом, ни креативная, ни медиасфера не получили в рамках реформы ни особого статуса, ни конкретной поддержки, что контрастирует с публичными заявлениями о приоритетности поддержки этих направлений…
По итогам первого чтения позиции фракций разделились. «Аманат» поддержал проект, сославшись на учтённые поправки. «Ак жол» проголосовал против, заявив, что модель несбалансированна. НПК одобрила, но предложила дополнительно обложить налогом предметы роскоши и пересмотреть подход к фискальной нагрузке. «Ауыл» и «Respublica» выступили за.
В итоге: 77 – за, 7 – против, 10 – воздержались. И хотя «за» – большинство, это не консенсус, а скорее шаг, чтобы не отстать от графика, поскольку по указу главы государства новый Налоговый кодекс в любом случае необходимо принять до конца текущей сессии, то есть до наступления лета.
В кулуарах даже среди тех, кто проголосовал «за», прозвучали оговорки: депутаты ожидают значительной доработки проекта ко второму чтению. Это подчёркивает, что консенсус был скорее процедурным, чем содержательным. Условия поддержки проекта были различными, и вряд ли они сохранятся, если предложения фракций не будут учтены в следующей редакции.
Первое чтение показало, что налоговая реформа – не просто фискальный акт, но ещё и политический документ. Он должен не только пересчитать налоги, но и восстановить доверие. Пока это не удалось.
Второе чтение станет проверкой: останется ли проект набором технических норм или превратится в попытку построить новую модель отношений между государством и обществом. Именно от этого будет зависеть, станет ли компромисс устойчивым решением или временной уступкой на фоне растущего недоверия. Это шанс для парламента и правительства превратить дискуссию в диалог и показать, что реформа способна учитывать не только цифры, но и реальную жизнь.
Пока же – ставка выросла, порог пересчитали, компромисс достигнут, но он больше напоминает перемирие с открытым финалом.
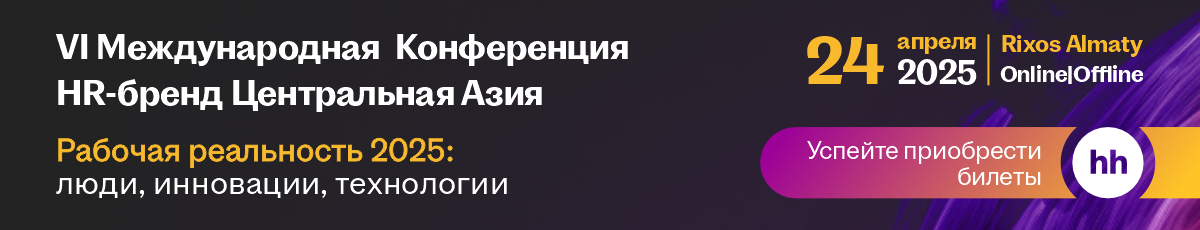

 Поддержать
Поддержать
 Smart
Smart  Бизнес
Бизнес  Культурная среда
Культурная среда  Общество
Общество  Политика
Политика  "Законы XII таблиц"
"Законы XII таблиц"  Досье и мифы
Досье и мифы 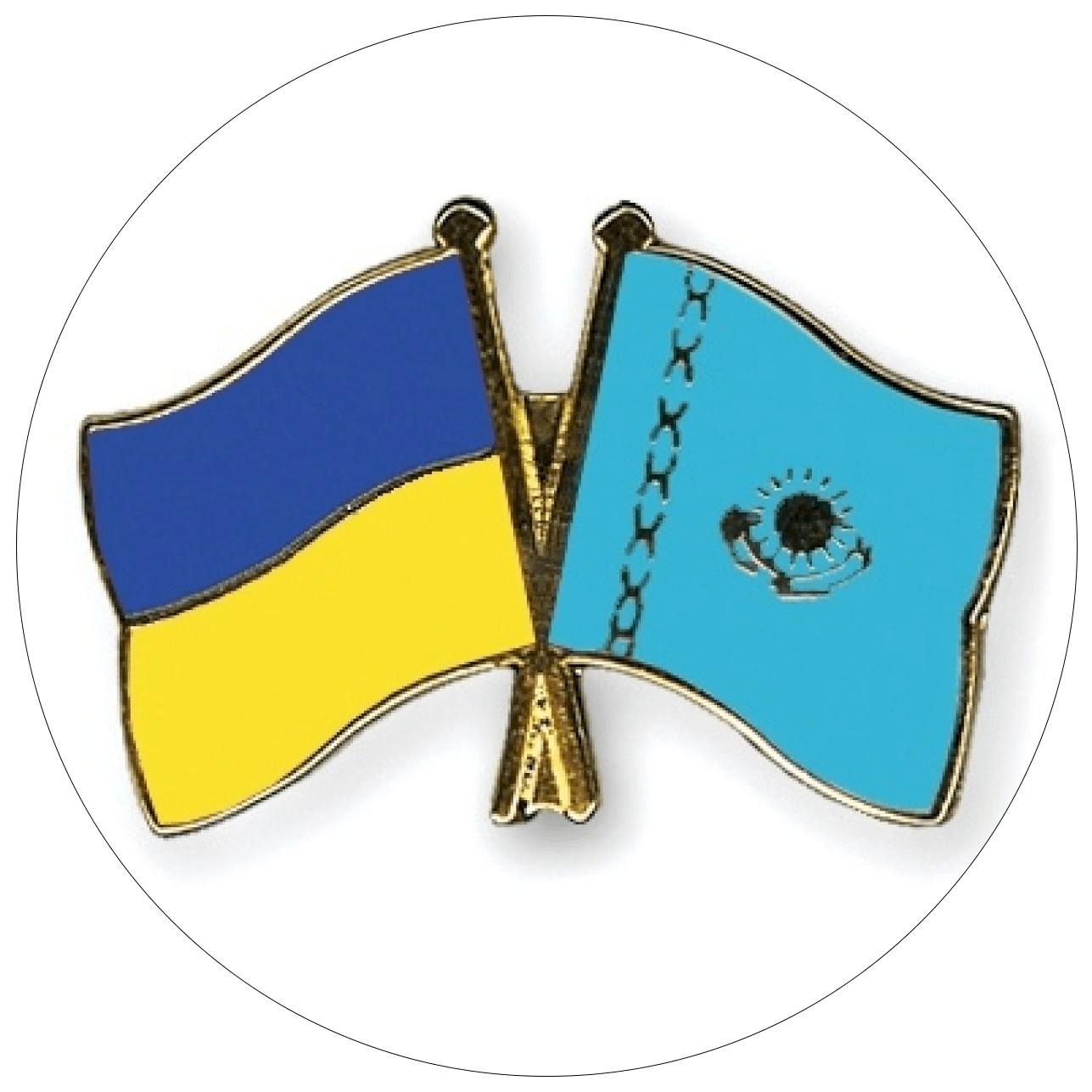 Асар в Украине
Асар в Украине 


Комментариев пока нет