Токаеву нужна не лояльность бюрократии, а стратегия будущего
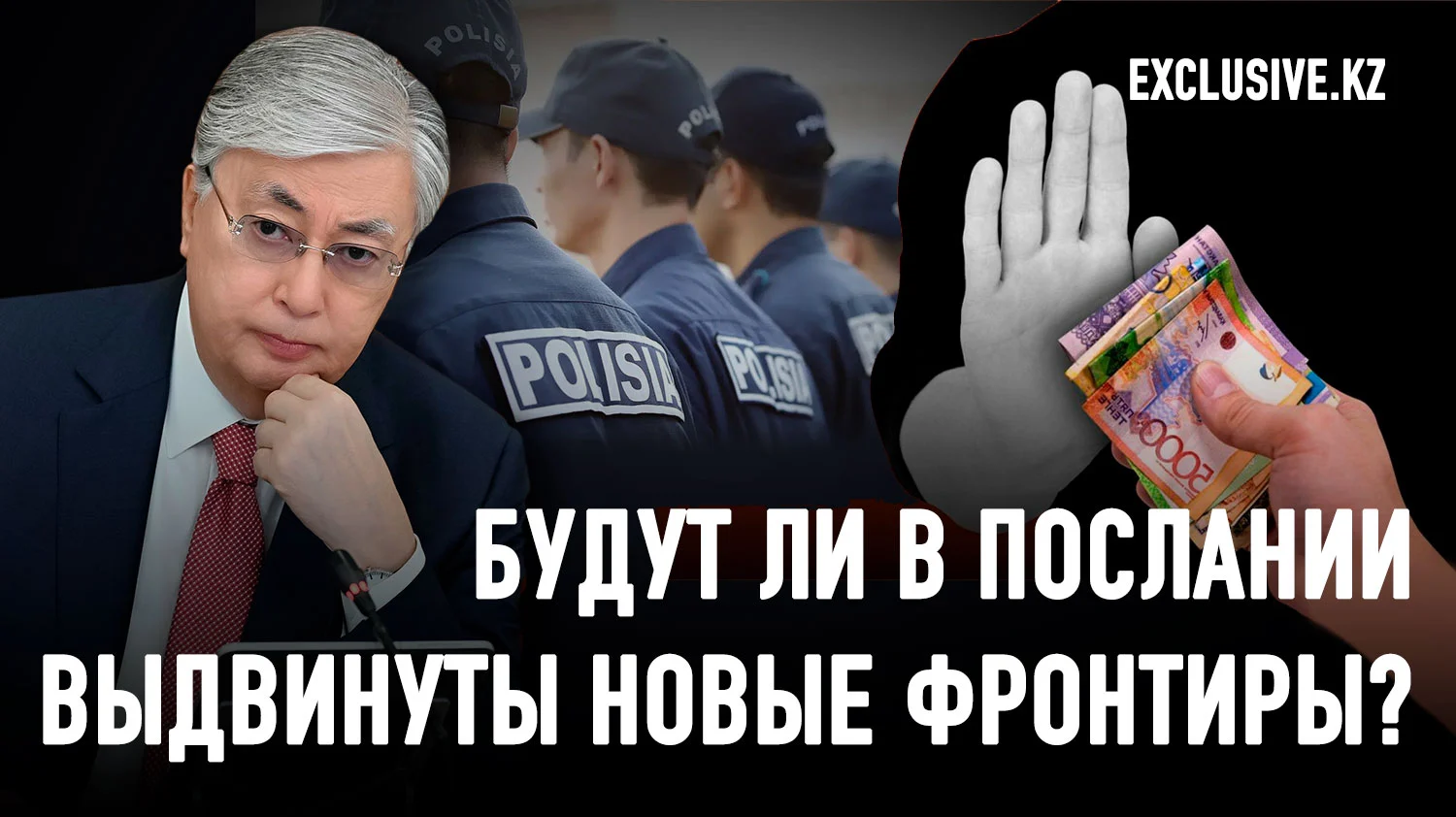
В контексте предстоящего президентского Послания многие обозреватели вновь заговорили о стратегии дальнейшего развития страны. На самом деле все три с половиной года после Кантара эта тема оставалась актуальной и ожидаемой.
Ожидания были светлыми. Прогрессивная общественность с воодушевлением встретила идеи Нового Казахстана. Отдельные романтики высказывались, что у Токаева есть шанс стать казахским Ататюрком.
Действительно, заговорив о строительстве Нового Казахстана, президент решительно назвал ключевые проблемы, которые нужно решить: несправедливое распределение доходов, олигархический характер созданной экономической системы, политическая модернизация на принципах демократии и плюрализма, принципиальное противостояние коррупции, реформа силовых структур и т.д.
Но люди, обладающие критическим мышлением, сознавали, что это непростой путь.Суть общественного запроса емко выразил Ермек Турсунов: «Что касается сегодняшнего лозунга: «объединяться вокруг президента»,то он будет иметь смысл лишь в том случае, если он – президент – докажет, что он действительно настроен серьезно. Что он отдает отчет тому, что история на этом не закончилась. Что эту историю нужно будет дописывать, даже если ему этого очень не хочется. И ему придется пойти на еще более «трудные решения», чем даже те, на которые он уже сходил».

То есть в обществе существовал запрос не только на демонтаж прежней системы, но и на построение новой. Это двуединая задача, причем вторая ее часть для страны на порядок важнее.
Власть понимала, что консервировать ситуацию – действовать себе во вред.Уход или половинчатые ответы на самые острые вопросы ведут к падению имиджа и авторитета верховной власти. Народу (населению, электорату) следует срочно предложить новые образы будущего. И был придуман удачный бренд «Жана Казахстана». Все стали ждать, что вскоре будет предложена целостная концепция и программа действий, раскрывающая его суть.
Однако Акорда продолжила практику брендирования, предложив новую вывеску – «Второй Республики». При этом не было учтено, что данный термин, как правило, ассоциируется с французской историей, в которой «Вторая Республика» была недолговечной, просуществовав четыре года, и завершилась реставрацией монархии. К понимаемому под данным термином радикальному обновлению политико-правовой системы, ведущему к новому республиканскому строю, страна приступить не успела, как рефреном зазвучало понятие «Справедливого Казахстана», что говорило о поиске новых красок для расцвечивания бренда, содержательно остающегося вполне пустым. Но политические технологии, даже успешно реализуемые для решения локальных задач, не могут быть полноценной заменой концептуальной политике, задающей долговременные социальные тренды.
Отсутствие путеводной концепции прямо на глазах превращается в ключевую проблему для действующей власти. Это особенно заметно на социально-экономическом треке, где правительство уже многие годы не поднимается выше уровня локальных задач, оперативного реагирования на повсеместно обостряющиеся проблемы. Три предыдущих президентских Послания были в основном экономическими по своему содержанию, однако перелома не достигнуто. Правительство даже было вынуждено пойти на непопулярные меры, проведя налоговую реформу, активно критикуемую малым бизнесом.
Однако может ли стратегическое видение появиться там, где нет концептуальных политэкономических подходов, основанных на идеологических принципах, разделяемых как властью, так и народом?
Как отмечает экономист Жарас Ахметов, «экономический рост не сопровождается снижением уровня бедности. Более того, растет уровень имущественного расслоения населения страны. …Из текущего экономического роста пользу извлекают только состоятельные граждане, а бедным не достается ничего. Значительная часть населения страны не вовлечена в экономические преобразования в стране и остается на обочине развития».
Если говорить об оценках не отдельных персонажей, а целых социальных страт, то наиболее беспокоящим фактором является явное разочарование со стороны среднего класса, который в силу своей социальной активности и пассионарности мог бы стать социальной базой поддержки Жана Казахстана.
Приведу еще одну цитату – на этот раз авторитетного государственного деятеля Крымбека Кушербаева: «Власть предлагает обширный набор фрагментарных изменений, каждое из которых можно назвать важным и даже радикальным в масштабах конкретной отрасли, но вместе они не создают общий рисунок новой экономической модели. Можно сказать, что за явлениями так и не проглядывает сущность. Смены правительства не способны привести к результату, пока не выработана новая политэкономическая парадигма. Только в этом случае возможен Новый Казахстан, под которым надо понимать новый конституционный строй».
Уловив, что база общественной поддержки Президента сужается, политолог Данияр Ашимбаев вынужден был вступиться за реформаторский настрой Президента: «Токаев – человек безусловно умный, опытный и более чем информированный – прекрасно понимает, что можно изменить и что нужно изменить. И если, что-то можно, но не нужно менять, то тут дело не в консерватизме или трусости, а в понимании осмысленности процесса».
Вот как раз этой «осмысленности» и нет, поскольку нет целостной и долгосрочной стратегии реформ, способной стать мотивирующей силой как для широких слоев общества, так и для политического класса, включая государственный аппарат. И желательно изложенной в программно-идеологическом документе.
Опыт выработки стратегий в Казахстане был. Нурсултан Назарбаев высоко оценивал роль целеполагающих концепций, разрабатывающихся тщательно и становящихся затем практическим руководством к действию. При всей сложности начального периода независимости первая стратегия развития была обнародована в 1993 году.
Следующую стратегию развития страны до 2030 года, например, Крымбек Кушербаев оценил как «вполне рабочий документ. Он содержал в себе важнейшую функцию целеполагания, при этом цели были конкретные, долгосрочные и идеологически цельные. Госаппарат понимал, что делать. В течение примерно 15 лет, до начала 10-х годов эта модель проявила себя в целом успешно, выведя Казахстан из кризисного состояния на траекторию роста».
Много лет назад известный журналист Гадильбек Шалахметов подарил мне очень ценную книгу. Она называлась «Стратегия для России: повестка дня для Президента – 2000» и была издана известными экспертами Совета по оборонной и внешней политике. Многое из того, что там рекомендовалось, было воплощено, и 2000-ные годы стали периодом мощного экономического всплеска в России.
Сейчас речь не идет о повторении прежних или копировании чужих стратегий. Речь о необходимости реальной и долгосрочной общенациональной повестки, создающей устойчивый баланс интересов государства и общества (и егоразличных страт).
Пока же существует резон подчеркнуть отдельные аспекты текущего политического момента. Очевидно, что наиболее остро вставший после Кантара вопрос демонтажа прежней системы снят с повестки дня. Сама модель, основанная на Конституции 1995 года, признана дееспособной, требующей избавления только от явно авторитарных черт (культа личности, кланового беспредела и т.п.) и микширования персоналистских свойств режима. Внутриэлитный консенсус заключается в том, что Жана Казахстан должен воплотиться в форме «отретушированного елбасизма», лишенного пороков и обеспечивающего постепенный прогресс.
В сфере внутренней политики возобладал курс на «демократическое облагораживание» прежней политической конструкции путем внешних изменений (рост многопартийности в парламенте, допуск туда оппозиционной партии, депутатов-самовыдвиженцев, выборы акимов нижнего уровня) при консервации модели с доминантным положением партии власти.
В связи с введенной однократностью президентского срока актуализировалась повестка 2029 года, началось перегруппирование политических элит в контексте следующих президентских выборов. Олигархат стремительно возвращает временно утраченную легитимность, поскольку политические группы нуждаются в финансовых ресурсах для разворачивающейся борьбы. Задача деолигархизации перестает быть актуальной для государственного аппарата, чутко улавливающего нюансы происходящего.
В силу этого оппозиция отстаивают версию, что президентТокаев не настроен радикально менять ни сформированную в прежние годы экономическую модель, ни систему сверхпрезидентской власти. Но на деле действующий президент явно нацелен на реформы, понимая тупиковый характер деградировавшей почти два десятилетия модели. И именно сильные президентские полномочия остаются нужны, чтобы помочь реформам.
Другие наблюдатели, не отказывая К.Токаеву в реформаторском духе, считают его приверженцем «китайского стиля» – неспешных, но последовательных шагов, надежно закрепляющих промежуточный результат, эволюционных изменений без расшатывания политической стабильности. Это мнение гораздо ближе к истине.
Однако, во-первых, «кантар» прервал мерное течение событий, а во-вторых, эволюционное движение вовсе не исключает видения дальней перспективы, ее оформления в качестве ключевых стратегических целей и формулирования методов ее достижения – политической «дорожной карты», рассчитанной до 2029 года. А для этого, в третьих, нужна команда единомышленников.
Подавляющее большинство чиновников высокого ранга и функционеров были взращены прежней системой, и не совсем понятно, насколько они разделяют видение К.Токаева. Пока же текущие процессы осуществляются в рамках устоявшихся практик, без выдвижения новых идейно-политических и политэкономических фронтиров.
Однако пост-кантаровская реальность требует от действующей власти кристаллизации идеологической концепции и формулирования новых программных целей, способных вызвать к жизни глубинные и живительные социально-политическое процессы. Для этого бюрократической лояльности недостаточно.Нужна принципиальная смена политического мышления и незаурядная методологическая подготовка,чтобы генерировать концептуальные идеи Нового Казахстана и обосновывать точные средства их реализации.





Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.